Тибо одолевали обычные фантазии отвергнутых поклонников. Он представлял, что умер, однако все-таки способен с горькой радостью видеть, как Агата льет на его могиле слезы раскаяния. Он снова и снова рисовал в воображении день, когда она вдруг одумается и постучит в его дверь, будет умолять о прощении, признает, что ошибалась, назовет его хозяином своего сердца. А потом — радостный, благословенный момент, когда он сможет осушить поцелуями ее слезы, сжать ее в объятиях и отнести на кровать. Но даже три года спустя Тибо еще задумался бы, не поддаться ли сладостному искушению просто захлопнуть дверь у нее перед носом.
Однако Агата и не думала раскаиваться. Она ни разу не попросила прощения и ни разу не сказала ни единого слова участия, хотя Тибо и был уверен, что порой читает в ее глазах нечто вроде болезненного сочувствия. Это был ее дар ему, ведь на самом деле ей хотелось приласкать его и утешить. Но она оставалась отстраненной и холодной, потому что надеялась, что это его излечит. Вот что она делала ради него, а он принимал это за жестокость.
Но это не было жестокостью. Агата не была способна на жестокость. Она полагала, что это проявление вежливости. Она предлагала ему тот же самый удобный и надежный покров секретности, который набросила на свою собственную жизнь.
Агата никогда и никому (и в первую очередь Тибо) ни слова не говорила о своей жизни за пределами Ратуши. Она никогда не упоминала о квартире на Приканальной улице, никогда не рассказывала о Гекторе и о том, что он делал, ни разу не обмолвилась об очередной картине, которую он бросил, не закончив, или о том, что он никак не приступит к новой, потому что для этого нужно вдохновение, а заниматься искусством — вовсе не то же самое, что класть кирпичи или разносить бутылки с молоком. Когда Гектор находил работу, она никому об этом не сообщала. Она молчала, когда он тратил все деньги — и свои, и ее. Молчала, когда он снова терял работу — а он терял ее постоянно. Она никогда не признавалась (в особенности себе самой) в том, что уже очень давно в ее груди поселилось грызущее разочарование — обычно оно вело себя тихо, но иногда показывало зубы и превращалось в нечто вроде страха. Она никогда не говорила о тех ночах, днях и снова ночах, когда она не вылезала из постели даже чтобы приготовить что-нибудь поесть, чтобы не потерять ни мгновения, которое можно провести с ним. Она никогда не говорила об этом — тем более с Тибо. Она была молчалива, спокойна и сдержанна. Так она защищала себя — и из вежливости предлагала ту же защиту Тибо. Она никогда ни о чем его не спрашивала и делала вид, что ни о чем не знает, холодная, прекрасная и твердая, как мрамор.
В то утро, когда она постучала в дверь Тибо, она была особенно прекрасна.
— Входите, госпожа Стопак, — сказал он.
Она вошла, окруженная ароматами «Таити» и отзвуками далекого ангельского хора, и когда она заговорила, Тибо постарался сконцентрировать внимание на маленькой родинке над ее верхней губой, которая была словно точкой в длинном рассказе о ее великолепии. Но это не помогло. Его голову заполонил сонм образов. Агата обедает с ним — как давно это было. Агата голая. Агата у фонтана. Две улитки с тигровыми полосками на раковинах, которых он встретил однажды по дороге к маяку, — они ползли, выбиваясь из сил, от одного островка травы к другому, который не могли ни увидеть, ни представить, ползли через бесконечный пыльный океан зазубренного гравия и переползли его уже на три четверти, когда он поднял их и перенес к месту назначения. Агата голая. Агата, идущая по Замковой улице. Агата голая. Ее запах, ее звук, она прижимается к нему у ворот парка. Агата голая. И зачем? К чему все это? Что более бессмысленно: две улитки на дороге или жизнь без Агаты? И какое это имеет значение?
— Утренняя почта, — сказала Агата и аккуратно положила на стол кожаную папку.
— Спасибо, — сказал Тибо. Сказал он это автоматически, не сознавая, что говорит, и в суде под присягой, в присутствии адвоката Гильома, он поостерегся бы утверждать, что произнес это слово. «Просто закрой глаза и подумай о чем-нибудь хорошем», — сказал он себе. Но это не сработало. Его глаза были открыты. «Смерть — это тоже приключение!» — одна глупая мысль следовала за другой. Черт бы побрал предыдущее поколение членов Библиотечного комитета! Если бы они не догадались приобрести «Питера Пэна», он не прочитал бы его, и тогда, может быть, сейчас его жизнь была бы лучше. А может, и нет.
— Ничего особенного нет, — сказала Агата.
— Да.
— Я имею в виду, в почте.
— Да, я понял.
— Не знаю, собирались ли вы…
— Да, собирался. — Его раздражало, что даже сейчас они могли читать мысли друг друга, заканчивать начатые другим фразы.
— Хорошо. Конечно. Извините. — Агата положила на стол вторую папку. — Расписание сегодняшних мероприятий. Заседание Планового комитета — в одиннадцать. Обеденное время свободно.
«Оно всегда свободно», — подумал Тибо.
— В три часа вы должны присутствовать на открытии нового физкультурного зала в Западной школе для девочек.
— Разрезание ленточки?
— И гимнастическое представление. Но это уже не вы, это девочки. И потом ничего до общего заседания Городского Совета. Вот повестка дня.
— Спасибо, госпожа Стопак, — сказал Тибо, пристально глядя на лежащие перед ним папки. И повторил: — Спасибо. — Когда она уходила, он, не поворачивая головы, проводил ее глазами и прошептал: — О, Боже мой! О, святая Вальпурния!
Потом Тибо приступил к работе. Работа была бумажная: он писал на листах бумаги, читал листы бумаги, долго смотрел на листы бумаги или перекладывал их из папки в папку. В какой-то момент ему понадобились скрепки, но блюдце, где они обычно лежали, оказалось неожиданно и необъяснимо пустым. Тибо открыл ящик. Долгий опыт общения с письменными столами научил его, что в каждом ящике стола в любом кабинете непременно найдется запылившийся леденец, тупой карандаш, устаревшее железнодорожное расписание и уж точно хотя бы одна скрепка. Он засунул руку поглубже, и в самом конце ящика, под двумя прошлогодними рекламными календарями, нащупал твердый бумажный прямоугольник. Тибо, конечно, успел забыть об открытках из музея, но стоило ему прикоснуться к конверту, как воспоминание о том дне ожило в его памяти.
Не было никаких причин не вынуть конверт, не было никаких причин не взглянуть на открытку, которая, как он знал, должна там лежать, и не впустить в голову те мысли, которые при виде этой открытки возникнут. Но Тибо почему-то казалось, что это было бы неправильно. Это значило бы поддаться слабости и расковырять рану, к которой он твердо решил больше никогда не прикасаться. Поэтому он солгал сам себе и притворился, что не понимает, что это за хрусткий, словно осенний лист, конвертик лежит у него в столе.
— Интересно, интересно… — пробормотал он и замер. Бессмысленно. Обманывать некого, разве что самого себя — а это не получится. Он вытащил открытку из конверта и положил на стол. Прекрасная женщина у стремительного водопада. Диана. Разъяренная богиня с испепеляющим взглядом ледяных глаз. Агата. Три года не изменили ее. Она была все той же. Тибо вздохнул, взял открытку, разорвал ее пополам, потом еще раз, и бросил в мусорное ведро. Ничего не должно оставаться, решил он, никаких свидетельств. Ничего. Но даже ничто — уже что-то. Тот факт, что он уничтожил открытку, был доказательством некоего другого факта, и само небытие этой открытки — как и той, другой, которую он послал по почте — имело не меньшее значение, чем ее присутствие в глубине ящика. То же самое и с мылом, что он дарил ей, давным-давно уплывшим в сливную трубу, и с давным-давно съеденным рахат-лукумом, и с лотерейными билетами, не принесшими ни гроша. По прошествии трех лет на их месте по-прежнему зияла пустота, похожая на оставшийся на стене след снятой картины, нестираемый знак отсутствия.
~~~
Через час или около того мэр Крович произнес слово «одалиска», и в этот же самый момент Агата постучала в его дверь.
— Пришел господин Чезаре из «Золотого ангела», — сообщила она. — Прием ему не назначен. Я сказала, что посмотрю, на месте ли вы.
— Да, я на месте, — сказал Тибо.
Он встал и подошел к двери, повторяя про себя: «Одалиска, одалиска», наслаждаясь пухлым, сочным «о», неровным, резким «иск» и их превосходным сочетанием.
— Приготовьте, пожалуйста, кофе, госпожа Стопак.
— В этом нет нужды, он принес кофе с собой.
Из-за угла показалась набриолиненная голова Чезаре.
— Надеюсь, вы не возражаете, — сказал он и указал на квадратную корзинку, в которой помещался завернутый в плотную ткань кофейник и с десяток пирожных.
— Отчего же я должен возражать? — сказал Тибо и радушным жестом пригласил гостя войти. — Проходите, господин Чезаре. Госпожа Стопак, думаю, нам понадобятся чашки и блюдца.
Агата удалилась и вернулась с двумя чашками, а Тибо тем временем усадил Чезаре за стол напротив себя.
— Так вы к нам не присоединитесь? — спросил Чезаре, но в его голосе прозвучала нотка облегчения, так что Агата в знак отказа вежливо улыбнулась и бросила печальный взгляд на Тибо.
— Тогда возьмите пирожное, — предложил Чезаре. — Нет, возьмите два! Съедите, когда сами будете пить кофе.
Агата заколебалась.
— Конечно-конечно, — сказал Тибо. — Возьмите себе пирожное!
Эти слова, похоже, повлияли на выбор Агаты.
— Нет, спасибо, — сказала она и вышла.
Несколько секунд добрый мэр Крович и Чезаре с корзинкой отвергнутых пирожных на коленях сидели неподвижно и глядели на закрывшуюся за Агатой дверь.
— Что ж, — сказал наконец Тибо.
— Очень, очень милая, — отозвался Чезаре и понимающе вздохнул.
После этого снова возникло впечатление, что темы для разговора не находится.
— Что ж, — сказал Тибо, — что ж, хорошо. — И потер руки, пытаясь казаться веселым и ничуть не смущенным.
— Кофе? — предложил Чезаре.
— Да, было бы славно.
— Как вы любите, господин мэр, по-венски.
— Хорошо. Спасибо.
Чезаре развернул кофейник, налил кофе в чашки и поднял свою, словно собираясь произнести тост.
— Ох, совсем забыл! Пирожное, господин мэр? — Он приподнял свою корзинку. — Ну и официант я, ничего не скажешь!
Тибо промычал что-то ободряющее и взял круассан.
— Здесь вы гость, господин Чезаре. Вы гражданин Дота, и для меня честь поухаживать за вами.
Они снова замолчали. Пожевали пирожные. Отхлебнули кофе. Мэр Крович поймал себя на том, что рассматривает роскошные черные усы Чезаре, прилипшую к ним микроскопическую крошку глазури и тончайшую, не толще нити, полоску седины там, где не прошлась кисточка с краской.
Они улыбались, кивали друг другу, жевали, прихлебывали и молчали. Цель визита Чезаре, если таковая и была, оставалась неясной, но Тибо был готов подождать.
— Как идут дела? — спросил он.
— Грех жаловаться. Работа кипит. Однако в последнее время вы, господин мэр, стали у нас редким гостем.
— Нет-нет, я… — Тибо неуверенно помолчал и продолжил: — Да, пожалуй, мне следует чаще к вам заглядывать. Да.
Сказав это, он откусил от пирожного изрядный кусок. Это дало ему возможность помолчать подольше, но жевал он целую вечность и в конце концов еле проглотил все, что было во рту.
— А у вас, — Чезаре взмахнул в воздухе остатком пирожного, — а у вас как дела, господин мэр?
— О, у меня то же самое. Как и у вас, работа кипит. Хлопот полон рот.
Снова молчание.
— Как бы то ни было, — сказал Тибо, — не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?
Чезаре провел языком под верхней губой, на случай, если там укрылись крошки.
— Да, — сказал он. — Да, в самом деле. Не хотите ли еще кофе, господин мэр? Он еще горячий.
Чезаре разлил по чашкам остатки кофе, но оставил свою стоять на столе, а сам подошел к окну и встал там, засунув руки в карманы и покачиваясь на каблуках.
— Смотрели последний фильм в «Палаццо»? — спросил он через некоторое время.
— Нет. А что, хороший?
— Мне так понравилось, что думаю сходить еще раз. Шпионский детектив. В главной роли Элмо Ритал.
— Отличный актер.
— Да, несомненно.
Тибо поставил чашку на блюдце.
— Господин Чезаре, если я могу быть вам чем-нибудь полезен, говорите, не стесняйтесь.
— Это сложный вопрос. Деликатный.
— Можете не сомневаться: что бы вы ни сказали, это не выйдет за пределы моего кабинета, — сказал Тибо, но потом, подумав (и тут же этого устыдившись), не собирается ли Чезаре предложить ему взятку, прибавил: — Если это не что-нибудь противозаконное, конечно.
Чезаре снова уселся на стул, раздвинув колени, и обхватил голову руками.

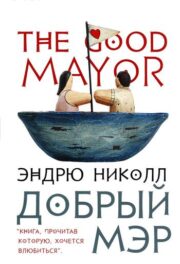
"Добрый мэр" отзывы
Отзывы читателей о книге "Добрый мэр". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Добрый мэр" друзьям в соцсетях.