Аспасия не смогла сдержать обещания. К утру Лиутпранд умер. В глубине души она знала, что это случится, и была уверена, что и он это знал.
Его люди оплакивали его, но события развивались так, как он хотел и как указал в своем завещании. Аспасия могла теперь сделать для него не больше, чем любой из его друзей. Хмурясь, она удерживала готовые пролиться слезы и занималась делами, которые так или иначе были связаны с предстоящим отъездом.
Она провела день, как в тумане. Все было серо, пусто, окрашено печалью. Она говорила, когда было нужно, даже улыбалась. Никто не замечал, что она думает о другом. Наверное, она умела притворяться лучше, чем ей казалось.
Когда отслужили обедню, Феофано была готова к своему последнему пиру при византийском дворе. Она знала, что Лиутпранд умер, обронила слезинку или две, но, как и у Аспасии, у нее не было времени горевать. К тому же ломбардец был больше другом Аспасии, чем ее. Перед ней открывался целый новый мир, а старый ускользал, оставаясь в прошлом. Стоя перед зеркалом в одеждах царевны, которая станет королевой, она думала о том, что покидает и куда отправляется, чувствуя, как бурное волнение преодолевает в ней печаль и страх.
Аспасия тоже была взволнована. Как обычно, она надела вдовье платье, но оно было великолепным — из узорного шелка, расшитое серебром и черным жемчугом. Новая служанка Феофано сделала ей изящную прическу, не слишком сложную, как и подобает дочери императора. Сегодня вечером Аспасия решила быть ею.
Император принимал западное посольство с большим почетом: в одном из лучших больших залов, где огромный золотой стол был окружен девятнадцатью ложами, колонны и стены блистали золотой росписью, а посуда подавалась тоже золотая. Император сидел в центре верхнего стола, замыкавшего нижний как перекладина буквы «тау», в белоснежных и пурпурных одеждах, с императрицей по левую руку и главой посольства по правую. Феофано занимала почетное место рядом с императрицей с женской стороны стола; Аспасия села рядом с ней. Никто не осмелился возразить, даже дамы, которые претендовали на это место. Все помнили, кто она.
Аспасия сидела спокойно, с аппетитом ела: она не теряла аппетит, как бы тяжело ни было на сердце. Лиутпранд был бы рад видеть, как его люди сидят рядом с императором, что бы он о нем ни думал. Никифор не оказывал западным послам такого почета. Он приглашал их, да, но в меньший зал и усаживал в самом конце нижнего стола, рядом со слугами. Как говорил Деметрий, чтобы преподать им урок. Чтобы они поняли, что их король слишком много себе позволил, присвоив титул императора Запада.
Иоанн был мягче. Он нуждался в том, что мог дать ему Запад, а, может быть, хотел им показать, в каком мире жила Феофано и что она приносит в жертву для блага их принца.
Аспасия, рожденная для пурпура, видела все это как будто со стороны. Так много золота, так много блеска в свете ламп. Блюдо появлялось за блюдом в соответствии с церемонией, сложной, как литургия в храме Святой Софии. Слуги мелькали, как тени, молчаливые, безупречные, незаметные. Ангельское пение императорского хора, музыка флейт и арф, танцоры, мимы, изображавшие старинную комедию. Очень старинную. Она была написана, когда Афины были молоды.
Знали ли они вообще об Афинах, эти варвары из западных стран? Рим когда-то владел ими, верно, но то, что оставили после себя Афины, — это империя, несвязанная с земными законами, это империя духа.
— Кто-то должен их учить, — подумала Аспасия вслух, но так тихо, что никто ее не услышал. Рядом с ней проплыла одна из трех огромных чаш, отлитых из золота и таких тяжелых, что они были подвешены на золотых канатах к потолку, и слуга направлял их по специальному пути от одного гостя к другому. Слуга, одетый в странное, по-императорски роскошное платье, был еще удивительнее этого механизма. Аспасия выбрала из груды орехов и фруктов апельсин и подождала, пока слуга очистит его для нее. В Германии нет апельсинов, А как там будет — кто знает? Такой роскоши, как здесь, не будет. Нигде в мире больше нет такой роскоши.
Женщины за столом щебетали, как птицы. Гул более низких мужских голосов вызвал в памяти образ моря. Завтра она будет плыть по морю. Впервые с тех пор, как она родилась, она покинет стены Города.
Она вздохнула. Внезапно ей захотелось уйти, оставить все это, оказаться на свободе.
Придворные пиры тянулись долго, и этикет дозволял незаметно выходить и так же незаметно возвращаться. Аспасия тихонько поднялась, воспользовавшись перерывом в танцах, когда многие вышли и искали нужную дверь. На мгновение она остановилась в коридоре, прислонившись к стене и закрыв глаза.
Открыв их, она увидела слугу, стоявшего перед ней с полоскательницей и полотенцем. Вода в полоскательнице пахла лимоном. Она позволила слуге освежить себя.
Она знала, что должна вернуться. Но медленно пошла в сторону туалетных. Навстречу шли люди, спешившие в зал.
Один из них остановился. Аспасия узнала его, хотя все еще была как в тумане. Священник Лиутпранда. Он выглядел усталым и грустным, но лицо его посветлело при виде Аспасии.
— Госпожа, — обратился он к ней.
— Святой отец, — ответила Аспасия. — Это он поручил тебе прийти сюда?
Священник грустно улыбнулся. — Он приказал. Я сижу на его месте, хотя я его и недостоин. Я пытаюсь получить от всего этого удовольствие. Он бы так и сделал.
— А потом пошел бы домой и все это безжалостно описал в своей книге.
Священник засмеялся, но тут же, будто провинившись, оборвал смех.
— Он говорил, что ты хорошо понимала его. Не было никого, сказал он, кто так, как ты, видел его насквозь и все ему прощал.
— Подобное стремится к подобному, — обронила Аспасия.
— И он так говорил, — ответил священник. Он спохватился, что-то вспомнив. — Он оставил кое-что для тебя.
— Его последняя воля? Я знаю: мне уже принес посланный.
— Не только это, — сказал священник. Он достал из-под мантии что-то, завернутое в шелк. — Он хотел, чтобы ты сохранила это на память. «Священники умеют молиться, — говорил он, — а женщины — оплакивать. Скажи дочери императора, чтобы она вспоминала меня таким, каким я был, и улыбалась».
Подарок Лиутпранда оказался увесистым. Аспасия, даже не разворачивая, поняла, что это такое. Он оставил ей свою книгу.
Священник пытался улыбнуться, но глаза его были полны слез. Она, утешая, погладила его по плечу. Это было уместно, хотя он был в два раза больше ее.
— Я тоже его любила, — сказала она.
— Я… вижу, — он говорил с трудом. — Меня зовут Гофрид. Если тебе что-то будет нужно, если мир, куда ты и твоя царевна направляетесь, покажется вам совсем чужим, вспомни обо мне.
Он поспешно отошел. Аспасия проводила его взглядом. Она почувствовала его искренность. Странные эти варвары: так быстро способны подарить свою дружбу. Надо помнить об этом, раз уж ей придется жить среди них.
Она содрогнулась при мысли, где ей придется жить. Крепко прижала к груди подарок Лиутпранда. Осязаемая весомость книги почему-то успокоила ее. На мгновение ей показалось, что он рядом, со своим злым языком, острым взглядом и ужасным нетерпением. Он был не святой, он был Лиутпранд.
Достойная эпитафия. Она прикрыла подарок широким рукавом и поспешила вернуться на императорский пир.
Хотя Аспасия много читала о морских путешествиях и мысленно готовилась к новой обстановке, она была взволнована неожиданными ощущениями, которые испытала, очутившись на палубе. Даже когда корабль еще был в тихой гавани, все кругом качалось и потрескивало; Аспасия никак не могла свыкнуться с мыслью, что под досками палубы, на которой она стояла, не было тверди, не было земли, опоры, а была только колеблющаяся, ненадежная вода. Что она почувствует, когда корабль выйдет на широкий простор Средиземного моря, оставалось только гадать.
Но она не боялась. Пока еще позади были стены Города, впереди виднелись стены Галаты, а внизу, у устья Золотого Рога, высилась гряда башен, охранявших Город от всего мира. На рассвете все это останется позади, а впереди будет бескрайний морской простор. Люди, которым довелось плавать в далекие края, рассказывали ей, какой страх вызывает бесконечное пространство, когда земля уходит из-под ног, а впереди открывается беспредельность.
Ей хотелось испытать это. Она стояла на корабле, как тень в тени блистательной Феофано. Город еще высился рядом, но она чувствовала себя уже разлученной с ним. Капитан отдал непонятные приказы на итальянском, и команда убрала канаты, которые привязывали их к земле. Набережная была запружена людьми, они кричали что-то: многие пришли посмотреть на царевну, уезжавшую на Запад. Но корабль уже стал отдельным миром.
Одна из горничных всхлипывала под своим покрывалом. Остальные переживали разлуку в безмолвной печали. Уезжавшие не отрывали глаз от отдалявшегося города: крыши, стены, террасы поднимались все выше, будто стремились уйти вместе с дымом от тысяч жаровен и печей к горестно-голубому небу, и казалось, что в неумолчном шуме можно уловить биение пульса величайшего в мире города.
Аспасия неотрывно смотрела на удаляющийся город. Множество чувств теснилось в ее груди. Она здесь родилась, здесь была счастлива, здесь страдала. Сейчас рвалась ее связь с прошлым. Что она здесь оставляла? Только клочок земли за городской стеной, которая приняла тело Деметрия. Теперь за могилой присмотрят другие, ей уже никогда не заплакать над могильным камнем, жалуясь на судьбу. Но разве она не унесет его в своем сердце?
Ветер холодил ее щеки, обжигая там, где текли слезы. Город туманился, отдалялся и расплывался в дымке.
Феофано была спокойна. Она стояла неподвижно, пока корабль шел по Золотому Рогу до мрачных башен возле узкого пролива Босфора. Там их подхватило течение, и, подняв паруса, корабль поймал ветер. Слева виднелись острые скалы и пологие склоны, тронутые первой весенней зеленью; справа высились стены Константинополя, казалось, поднимавшиеся из моря. Купола Святой Софии парили в вышине, бесплотные, казавшиеся несколькими лунами. Священный дворец сиял в кольце стен, ускользал, растворялся вдали.
Когда последний угол стены остался позади и скрылся, Феофано, наконец, повернулась и позволила увести себя в скрипучий сумрак каюты. Каюта была низкая, темная, пахла дегтем и солью, но была обставлена достойно королевы. Служанки, потерявшие родные места, были рады отвлечься среди шелков, вышивки, резной и инкрустированной мебели. Они искали утешения, суетясь вокруг своей госпожи, которая молча переносила их внимание.
Они никак не могли успокоиться. Чтобы прекратить раздражавшую ее суету, Аспасия нетерпеливо сунула одной книгу, остальным — шелка и иголки для вышивания и зажгла лампу, качавшуюся под потолком. За привычным рукоделием они немного успокоились, только Феба продолжала тихо всхлипывать. «Хорошо хоть, — подумала Аспасия, — что никто не страдает от морской болезни. Пока. Люди говорили, что Мраморное море обычно бывает спокойным. Сегодня оно таким и было, благодарение небу. Некоторые женщины были бледны, но, наверное, это от переживаний; главное, все успокоились».
Но Феофано была уж очень спокойна. Аспасия наблюдала за ней, даже не стараясь притвориться, что занята рукоделием. Феофано тоже сидела в бездействии. Казалось, она прислушивается к чтению — читали что-то безобидно-скучное, приличествующее высокородным женщинам. Руки лежали на коленях. Лицо было неподвижным, словно лик на иконе. Глаза опущены, и какое выражение таилось в них, увидеть было невозможно.
Когда она была ребенком, энергия била в ней через край, она была веселой. Когда она так изменилась?
Когда, повзрослев, решила, что должна стать королевой. Она видела, что произошло с ее матерью, она знала, какой ценой приходится платить за власть, но она все равно хотела власти.
Может быть, на Западе она снова научится смеяться. Византийские императрицы не смеялись, в отличие от германских королев. Германские мужчины смеяться умели: Аспасия слышала их громкий свободный смех под солнцем и ветром. Они были рады оставить слишком большой, слишком могучий, слишком городской Город. Они возвращались домой.
Феофано тоже слышала их смех: она напряглась, губы ее сжались. Аспасия коснулась ее руки. Она была холодна как лед.
— Знаешь, Аспасия, — пробормотала Феофано, — мне хочется…
— Вернуться?
Феофано резко мотнула головой.
— Нет. Не обратно. И не вперед. Просто стоять на месте и не двигаться ни на запад, ни на восток. — Она засмеялась, но смех ее был невесел. — Я боюсь, Аспасия.
— Я тоже, — призналась Аспасия.
— Ты? — удивилась Феофано. — Ты же никогда ничего не боялась. А я шарахаюсь от теней. Я хотела быть смелой, Аспасия. Я собиралась завоевать мир, стать императрицей, заставить королей склониться к моим ногам. Но когда пришла пора действовать, мне хочется спрятаться под одеяло и вообще не высовывать носа. — Она взглянула прямо в лицо Аспасии. Глаза ее не походили сейчас на глаза испуганной лани. Они смотрели мрачно. — А вдруг я возненавижу его, Аспасия?

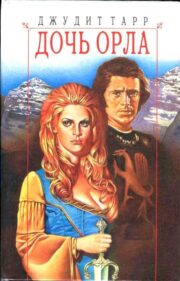
"Дочь орла" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дочь орла". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дочь орла" друзьям в соцсетях.