– Честное слово, для малышки Буйу она ведёт себя безукоризненно! – гласило общественное мнение.
Ей исполнилось семнадцать-восемнадцать лет, цвет её лица стал словно у плода, укрытого от ветра, её взгляд заставлял опускать глаза, а походка была – просто залюбуешься. Она стала посещать танцплощадки на ярмарках и во время праздников, плясать до упаду, очень поздно гулять в обнимку с кавалерами. По-прежнему злючка, но смешливая, подзадоривающая тех, кто обратил на неё внимание.
Вечером на св. Иоанна она танцевала на плохо освещённой площади Большой Игры, где пахло керосиновыми лампами, а подбитые гвоздями ботинки танцоров выбивали пыль из дощатого помоста танцплощадки. Все кавалеры, как и положено, танцевали не снимая шляп. Блондинки в обтягивающих корсетах становились красными, как винная гуща, а загорелые от работы в поле брюнетки казались навеселе. Нана Буйу в летнем платье в цветочек в компании работниц, бросающих вокруг презрительные взгляды, пила лимонад, смешанный с красным вином, когда на танцах появились парижане.
Два парижанина, какие не редкость летом в деревне, друзья владельца замка из соседнего городка, в костюмах из белой саржи и в шёлковых рубашках со скуки и потехи ради пришли взглянуть на деревенский праздник в день св. Иоанна. Заметив Нану, они перестали отпускать шутки и присели выпить, чтобы поближе разглядеть её. Она сделала вид, что не слышала слов, которыми они вполголоса обменялись. Гордость совершенного создания запрещала ей поворачиваться в их сторону и прыскать от смеха, как её товарки. Она расслышала: «Лебёдушка среди гусынь… Грёз,[48] да и только… Преступно зарывать в глуши такое чудо…» Когда парижанин в белом пригласил её на вальс, она нисколько не удивилась и танцевала серьёзно, молчаливо; её ресницы, превосходящие по красоте её взгляд, порой соприкасались со светлыми усами кавалера.
После вальса парижане ушли, а она, обмахиваясь веером, присела выпить лимонаду. Потом её приглашали молодой Лериш, Уэт и даже Онс, аптекарь, и Посси, краснодеревщик, прекрасный танцор, хоть и навеселе. Всем им она отвечала: «Благодарствую, я устала», а в половине одиннадцатого вовсе ушла с танцев.
А затем… затем ничего с ней не произошло. Парижане не вернулись, ни эти, ни какие другие. Уэт, Онс, молодой Лериш, коммивояжёры с золотой цепью от часов поперёк живота, солдаты на побывке и клерки напрасно одолевали крутизну нашей улицы в час, когда по ней спускалась всегда подтянутая, хорошо причёсанная швея, приветствующая встречных кивком головы. Её дожидались на танцах, где она с чувством собственного достоинства пила лимонад, всем отвечая: «Спасибо, я не танцую, я устала». Задетые кавалеры стали шутить: «Видать, подхватила усталость на все тридцать шесть недель!» – и следили за её фигурой… Но ни этого, ни чего другого не случилось с малышкой Буйу. Она просто-напросто ждала. Ждала, веря в свою красоту, осознавая, чего следует ждать от случая, однажды уже подавшего ей знак. Она ждала… того парижанина в белом? Нет. Незнакомца, похитителя. Гордое ожидание сделало её целомудренной, молчаливой; с удивлённой улыбкой она пренебрегла Онсом, пожелавшим возвести её в ранг законной аптекарши, отказала первому клерку ростовщика. Больше не оступаясь и разом припрятав всё, чем она прежде щедро одаривала деревенщин, – смех, взгляды, светлый пушок на щеке, по-детски яркий ротик, едва различимую в синем полумраке шею – она ждала своего часа и безымянного принца.
Проезжая однажды через свой родной городок, я не встретилась там с тенью той, что мягко отказала мне в «форме малышек Буйу», как она это называла. Мой автомобиль на малой скорости – как всегда недостаточно малой – ехал вверх по улице, на которой мне больше незачем останавливаться, и какая-то женщина задержалась на тротуаре, чтобы не попасть под колёса.
Тонкая, с волосами, аккуратно уложенными по моде прежних лет, с ножницами швеи на стальной цепочке, в чёрном фартуке… Огромные мстительные глаза, сжатые уста, из которых давно, должно быть, не вылетало ни звука, щека и висок, пожелтевшие, как у тех, кто работает при свете лампы… Женщина сорока пяти лет… Да нет же, нет! Тридцати восьми, мне ведь тридцать восемь, сомневаться не приходилось… Я притормозила, чтобы пропустить её, и «малышка Буйу» пошла вниз по улице, прямая и равнодушная после того, как тревожный и страстный взгляд, брошенный в мою сторону, убедил её, что в автомобиле не было похитителя.
ПСИНА
Крупная, приземистая, как четырёхмесячный поросёнок, жёлтая с вкраплениями чёрного и гладкошёрстная, она больше походила на щенка мастифа, чем на бульдога. Невежды обрезали ей хвост и уши, от которых остались лишь обрубок и клиновидные лоскутки. Но никогда ни одна собака, ни одна женщина в мире среди отпущенных им прелестей не получали таких глаз. Когда мой старший брат, добровольно проходивший службу в главном городе департамента,[49] спас её от идиотского распоряжения, по которому все собаки в казарме подлежали истреблению, и привёл к нам в дом, она взглянула на нас своим всё понимающим, сверкающим влагой, сравнимой с человеческими слезами, взглядом цвета выдержанной мадеры, в котором едва ли сквозило беспокойство, и покорила нас. Мы все, а особенно я, тогда ещё маленькая девочка, оценили её сердечность – такая бывает у кормилиц – и ровный нрав. Она редко лаяла – голос у неё был глухой и басистый, как у дога, – зато умела разговаривать и выражать свои мысли, например улыбнувшись своей черногубо-белозубой улыбкой и с заговорщицким видом прикрыв глаза мулатки словно натёртыми углем веками.
Наши имена, имена кошек и сотню новых слов она выучила за то же время, что понадобилось бы смышлёному ребёнку. Всех нас она приняла в своё сердце и провожала: маму – до мясной лавки, а меня ежедневно – до школы. Но принадлежала она одному старшему брату, спасшему её от удавки или пули. И до такой степени любила его, что теряла в его присутствии самообладание. Глупела, морщила лоб и только и знала, что напрашивалась на муки, которых ждала, как наград. Ложилась на спину, подставляя свой живот, усыпанный фиолетовыми сосками, на которые мой брат нажимал, как на клавиши, исполняя «Менуэт» Боккерини.[50] Псине полагалось при каждом ударе взвизгивать, что она и делала, а брат строго выговаривал ей: «Псина! Вы фальшивите! Начнём сначала!» Он делал это беззлобно, игра на сосках заставляла чувствительную Псину издавать целую гамму разнообразных взвизгов. Когда брат заканчивал, она оставалась лежать на полу, требуя: «Ещё!»
Брат отвечал ей на нежность нежностью и сочинил для неё песенки из тех, что, развившись в непорочной пустоте нашего ума, в минуту необузданной ребячливости являются на свет странными детьми ритма, повтора одних и тех же слов. Припев прославлял Псину за то, что она
Жёлтая, прежёлтая,
Чрезвычайно жёлтая,
Дальше некуда…
В другой песне воздавалось должное её скульптурным формам, и она трижды называлась «симпатичным цилиндром», слова этой песни были положены на великолепную музыку военного марша. Довольная Псина хохотала – обнажала зубы, морща свою и без того сморщенную челюсть, клала на пол остатки своих ушей и, за неимением хвоста, виляла толстым обрубком. Дремала ли она в саду, предавалась ли важным делам на кухне, песня про «цилиндр» из уст моего брата приводила Псину, покорённую знакомой мелодией, к его ногам.
Однажды Псина жарилась после еды на обжигающем мраморе камина, а брат, разбиравший на пианино увертюру, вставил в неё мелодию «цилиндра». Первые же ноты, как надоедливые мухи, нарушили сон собаки. По её гладкой, светлой, как у коровы, шерсти пробежала дрожь, а её уши… Энергичная реприза – по-прежнему инструмент solo[51] – и Псина-музыкантша приоткрыла свои совсем по-человечески затуманенные глаза, поднялась и всем своим видом отчётливо спросила меня: «Я не ослышалась?..» Затем повернулась к своему изощрённому палачу, что снова и снова наяривал её излюбленный мотив, приняла это новое колдовство и с загадочным и себе на уме видом ребёнка, присутствующего при разговоре взрослых, уселась возле пианино, чтобы лучше слышать.
Её кротость обезоруживала и лишала желания поддразнивать. Ей поручали вылизывать котят, щенков от разных помётов. Она целовала руки только научившихся ходить мальчуганов, позволяла цыплятам клевать себя в нос, и, по правде сказать, я слегка презирала её за благодушие сытой кумушки до тех пор, пока она не повзрослела и не влюбилась в охотничьего пса нашего соседа, хозяина кафе. Это был большой сеттер, как и все сеттеры наделённый шармом в стиле Второй империи: блондин с уклоном в красное дерево, лохматый, глаза в блёстках; может, его физиономии и недоставало некоторой определённости, зато достоинства – хоть отбавляй. Его подруга была похожа на него, словно они брат и сестра, однако нервы у неё были расстроены, и с ней случались истерические припадки, кроме того, она истошно выла из-за хлопнувшей двери и стонала, заслыша благовест. Их хозяин, любитель благозвучия, нарёк их именами Блэк и Бьянка.
Короткая идиллия помогла мне лучше узнать Псину. Проходя с ней как-то мимо кафе, я увидела рыжую Бьянку: она лежала на каменном пороге, скрестив перед собой лапы, от ушей свисали развившиеся локоны. Псина и Бьянка лишь взглянули друг на друга, и тут же раздался вопль Бьянки, которой отдавили лапу, после чего она скрылась в кафе. При этом Псина умудрилась ни на шаг не отстать, только вскинула на меня свои глаза расчувствовавшегося пьяницы: «Что это с ней?»
– Оставь её, – ответила я, – ты же знаешь, она не в себе.
Дома никому не было дела до личной жизни Псины. Она была свободна в своих поступках, могла уйти, вернуться, закрыть носом плохо прикрытую дверь, поздороваться с хозяйкой мясной лавки, увязаться за моим отцом, отправившимся сыграть партию в экарте, – мы не боялись, что она потеряется или замыслит что-либо худое. И потому, когда хозяин кафе пожаловался нам, что по вине Псины у Бьянки разодрано ухо, мы все, забыв о приличиях, покатились со смеху, указывая ему на развалившуюся у камина и блаженствующую Псину, которую победно оседлал котёнок.
На следующее утро я, уподобившись столпнику,[52] пристроилась на карнизе одного из столбов, на которых держалась садовая решётка, и оттуда проповедовала невидимым толпам, как вдруг послышался приближающийся собачий лай; собак, видимо, было две, я узнала высокий и отчаянный голос Бьянки. Вот показалась и она сама – всклокоченная, обезумевшая, проскочила угол Утёсной улицы и понеслась вниз по Виноградной. За ней по пятам как вихрь летело нечто вроде жёлтого с чёрными подпалинами разъярённого чудовища, ощетинившегося всеми своими зубами, с глазами навыкате, фиолетовым языком в пене; оно то разом выкидывало из себя все четыре лапы, то убирало их в себя, как лягушка… В мгновение ока пронеслось оно передо мной; спешно спускаясь со своего столба, я различила вдали столкновение, короткую стычку, сопровождавшуюся грозным рыком, а затем воем поверженной рыжей собаки… Стремглав домчав до калитки, я оторопело остановилась: Псина, жёлтое плотоядное чудовище, как ни в чём не бывало лежала на крыльце.
– Псина!
Она попробовала было изобразить свою улыбку доброй кормилицы, да у неё не вышло: она задыхалась, а белок её глаз в красных прожилках, казалось, кровоточил…
– Псина! Ты ли это?
Она поднялась, крупно задрожала и попыталась уклониться от разговора; её чёрные губы и язык, которыми она хотела лизнуть мои пальцы, были в золотисто-рыжей шерсти Бьянки…
– Ох, Псина, Псина…
Мне не хватало слов, я ещё не умела сетовать, пугаться и удивляться перед лицом злой силы – в свои десять лет я не знала её названия, – которая смогла превратить в зверя добрейшее из созданий…
ПЛАЩ СПАГИ[53]
Плащ спаги, чёрный бурнус с золотой нитью, феска, «гарнитур» из трёх овальных миниатюр – медальона и двух серёжек в оправе из камешков, кусок «подлинной испанской кожи» с неистребимым запахом… Когда-то, уподобляясь в том маме, я благоговела перед этими сокровищами.
– Это не игрушки, – важно говорила она с таким видом, что я начинала воспринимать их как игрушки, но только для взрослых…
Иногда мама забавлялась, надевая на меня чёрный лёгкий бурнус с золотой нитью, накидывая мне на голову капюшон с кисточкой, и аплодировала сама себе за то, что произвела меня на свет.
– Когда выйдешь замуж, будешь набрасывать его на плечи после бала. Что может быть более удобным и к тому же не выходящим из моды… Твой отец привёз его из африканского похода вместе с плащом спаги.
Плащ спаги из красного тонкого драпа был завёрнут в старую простыню и дремал себе в шкафу, с вложенными в него разрезанной на четыре части сигарой и пенковой обкуренной трубкой – «против моли». Но то ли моль стала нечувствительна к запаху курева, то ли нагар трубки утратил своё инсектицидное свойство, только во время одного из переворотов домашнего значения (имя которым – большая уборка), ломающих тряпично-бумажно-верёвочный порядок шкафов, как реки ломают лёд, мама, развернув плащ спаги, жалобно вскрикнула:

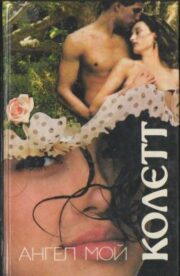
"Дом Клодины" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дом Клодины". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дом Клодины" друзьям в соцсетях.