– На особом положении только я – султанша – и дети Повелителя. Остальные рабы, ты об этом забыла? Иди, работай, и если мне скажут, что ты отмывала грязь плохо, пойдешь топить печи в хаммаме.
И отвернулась, словно бунтарки не существовало.
Приехала Михримах, бросилась к Роксолане:
– Матушка, я так боялась за вас! У вас все хорошо?
Роксолана рассмеялась:
– Все янычары тушили кровлю здесь, как при этом не сгорел остальной Стамбул?
– Я не о том. – Михримах кивнула на все еще бестолково толпившихся в стороне женщин, видно также считавших себя на особом положении и не намеренных заниматься делом. – В такой суматохе вам рядом с ними опасно.
Роксолана вспомнила, что творилось ночью, и поняла, что дочь права – решись кто-то воспользоваться неразберихой, гибель султанши могли и не заметить, а тех, кто ее ненавидел, в гареме еще полно. Наверняка у многих, считающих себя обиженными, сейчас роились такие мысли в голове. Жалели, что не сообразили ночью.
Усталая спина выпрямилась, Роксолана шагнула к женщинам.
– Кто еще хочет в истопницы? Идите работать!
Михримах тихонько предложила:
– Матушка, вы устали, может, переедете ко мне в дом, пока здесь все не приведут в порядок?
Да, ей очень хотелось уйти, чтобы не видеть спешно опущенных вниз взглядов, полных ненависти, не слышать за спиной шепот сожаления: «Жаль, не сообразили ночью…» Кивнула:
– Только распоряжусь.
Скоро не получилось, Роксолана и впрямь еще с час отдавала распоряжения, отбирала то, что осталось не испорченным в ее собственных покоях, беседовала с кальфами… От султана пришел посланец с вопросом какая нужна помощь и не пострадал ли кто. Роксолана передала через него, что все целы, сгорела всего лишь кровля, хотя многое испорчено водой и гарью. А еще просила разрешения перебраться в дом к дочери, пока Старый дворец не приведут в порядок.
Не дожидаясь разрешения, уехала к Михримах, это тоже вызвало поток желчи и причитаний:
– Сама уехала отдыхать, а нас заставляет работать! Ведьма!
Но и гарем разделился на тех, кто радовался, что и вчерашних бездельниц заставили испачкать ручки в грязи, и этих самых бездельниц, хоть на несколько дней потерявших свое привилегированное положение. Толку от вторых было немного, больше мешали, да и вообще дворец привели в порядок быстро, однако там по-прежнему пахло гарью, этим запахом пропитались все ковры, все занавеси, одежда, никакие благовония не помогали, никаким сквознякам не удавалось выветрить.
Роксолана очень устала после суматошной ночи и беспокойного утра. Но заснуть не удавалось. Сначала она отправилась в хаммам, чем скорее вымоешь мерзкий запах из волос, тем лучше, чтобы не впитался, как и в кожу тоже.
Михримах сопровождала ее. Сопровождали и служанки, которых султанша взяла с собой.
– Матушка, какая вы стройная! Хотела бы я оставаться такой же в вашем возрасте…
Комплимент и пощечина одновременно – Михримах похвалила фигурку Роксоланы, которая действительно осталась почти девичьей, но тут же подчеркнула ее возраст. Скажи это кто-то другой, получилось бы обидно, но Михримах прощалось многое.
Роксолана рассмеялась своим серебряным смехом, но рассмеялась невесело:
– Для этого держи спину прямо и плечи развернутыми. А еще не ешь много сладостей и побольше стой, от сидения жир откладывается на боках. – Она вдруг задумчиво вздохнула. – Знаешь, Михримах, на моей родине сидят на стульях, не подворачивая ноги под себя.
– Как французы?
– Откуда ты знаешь, как сидят французы?
– Рустем рассказывал. И на его родине сидят на стульях. Мы устроили одну комнату так, хотите посмотреть?
– Хочу.
Позже сидела за столом на обычном стуле и пыталась понять, удобно ли.
Но жить в доме Михримах долго нельзя, у нее есть свой… Сулейман приезжал к дочери уже дважды, чтобы повидаться с женой, долго так может продолжаться? Они вместе ездили во дворец, убедились, что гарь выветрится нескоро.
Роксолана кусала губы, проклятый пожар совершил то, что не смогли сделать все завистницы и ненавистницы вместе взятые – разлучил их с Сулейманом.
Ну уж нет! Она найдет выход, что-нибудь придумает.
Отправилась вместе с султаном на охоту, но не далеко в Эдирну, а всего на два дня в ближнее имение в Орманлик. Ночевали вместе, там и родилась мысль:
– Повелитель, приютите бедную сиротку в своих покоях?
– Где? – Сулейман перебирал золотистые волосы Роксоланы, ломая голову над тем же вопросом.
Несколько минут назад он, как и Михримах, восхищался стройной, нестареющей фигуркой возлюбленной, ласкал ее, наслаждался близостью, презрев все запреты и обычаи. Он любил это стройное тело, высокую, крепкую, несмотря на шестерых детей, грудь, эти золотистые волосы, эти зеленые глаза и серебристый голосок. И никто бы не смог доказать Сулейману, что есть женщины красивей и стройней. Для других – да, для него нет, для него навсегда только эта.
Ей уже много лет, но какая юность может заменить нежность и понимание? Какие красивые черты лица пересилят мудрость и нежность серебристого голоса? Кто лучше нее знает, когда нужно приласкать, а когда поддержать даже молча? Кому еще он мог написать стихи, какие писал ей. До сих пор писал, после двадцати лет жизни.
С первого дня, когда услышал голосок, словно серебряный колокольчик, читавший подруге стихи о возлюбленном, и до конца жизни (Сулейман был уверен в этом) он болен только ею. Даже когда брал на ложе других, а это неизбежно, все равно видел только ее.
Теперь уже и физическая близость не столь нужна, была бы рядом, напевала или просто молча разбирала свои бумаги, слушала его стихи, читала чьи-то (свои никогда ему вслух не читала), смеялась, даже плакала или гневалась – только была бы рядом.
Понимал, что этим своим выбором ее единственной навлек на нее же ненависть гарема и не только гарема, всеобщую ненависть. Однажды спросил, не жалеет ли? Хуррем сверкнула зеленым взглядом:
– Нет! Пусть все ненавидят, лишь бы вы любили одну меня!
Так и было, он любил, а еще дети, остальные ненавидели. И Сулейман понимал, что ей жить только пока жив он, что никто не сможет защитить Хуррем от ненависти того же Мустафы, когда тот перестанет быть шехзаде и назовет себя султаном. Но и решиться назвать наследником их сына Мехмеда тоже не мог. Пока не мог. Отправил его вместо Мустафы в Манису, но в остальном ничего не изменил.
Законы хорошо, мудрые законы еще лучше, но как же они иногда осложняют жизнь!
Бывали мгновенья, когда султан попросту завидовал самым простым своим подданным. Простой рыбак может каждую ночь ложиться спасть со своей женой, не будучи обязанным любить многих из гарема. Он вообще может иметь одну женщину. Султану такого не позволено… Н он пошел против обычаев и людской молвы, женившись на вчерашней рабыне и позабыв гарем.
А теперь? Куда от этого гарема денешься, хотя, что от него осталось? Дело не в пожаре, он почти ничего не повредил в Старом дворце, разве что ковры попортил, да гарью все пропитал. Но там почти не осталось самих одалисок. Хуррем зря думала, что он не замечает ее хитрости, когда постепенно уничтожала гарем, все Сулейман замечал. Его одалиски раздавались приближенным, новые не покупались и в дар не принимались, еще чуть и кроме самой Хасеки в гареме останутся только слуги. Может, она этого добивается? Молодец!
Хасеки просила приютить ее в его покоях… Правильно, не ездить же на охоту дважды в неделю? К тому же сам Сулейман не меньше тосковал по простому общению, по тихим вечерам у огня, таким же тихим разговорам или даже молчанию рядом.
– Где?
– Выделите мне пару комнат в Топкапы.
– Где?! Там нет гаремных помещений.
– Мне не нужны большие покои, я просто хочу быть рядом с вами.
Он вяло возражал, а в голове уже вертелась мысль, как это устроить. Мехмед Фатих, его предок, был мудр, когда запретил женщинам ночевать там, где проходят заседания Дивана, считая, что женский дух будет витать над этим местом еще долго, а это собьет пашей с мысли.
Хуррем, услышав такое, звонко смеялась:
– Неужели паши сбиваются с мысли, когда я сижу за решеткой, слушая заседания?
Да, так было, вернее, Хуррем частенько совала свой любопытный носик в мужские дела. Он сам показал Хасеки комнату с решеткой, отделявшей помещение Дивана, находясь за которой султан мог слушать, что происходит на заседаниях, и оставаться невидимым.
Пришлось признать, что присутствие женщины совсем рядом вовсе не мешало пашам.
– Повелитель, мне не нужно много комнат, я просто хочу быть рядом с вами. Если вы позволите поставить шатер под вашими окнами, буду счастлива.
Сулейман хохотал:
– Хорош я буду, если стану красться по ночам в твой шатер! Хорошо, я подумаю, где выделить тебе комнаты.
Позже скажут, что он приоткрыл ей щелочку, позволив недолго пожить в одной маленькой комнатке, пока отмывали Старый дворец от грязи, а она перетащила туда всех своих слуг.
Ненавистники забывали, что милые сердцу султана одалиски часто жили в покоях Топкапы, конечно, в отдалении от Дивана, но так, чтобы ради ночных удовольствий Повелителю не пришлось идти к ним в Старый дворец. Просто раньше такие счастливицы менялись, забеременев или просто надоев султану. Женщина возвращалась в гарем, а ей на смену приходила другая.
Сам Сулейман предпочитал совершать путь из одного дворца в другой, но и у него одалиски ночевали в Топкапы. Теперь туда могла переехать любимая женщина, разница только в том, что он не намерен менять ее на других.
– Там неудобные комнаты.
– Неважно, я сделаю их уютными.
– Переезжай.
– Со слугами?
– Только без гарема.
Понимали они, какой поток ненависти вызовет вот такое решение? Конечно, понимали, но к ненависти не привыкать, а срок земной жизни не бесконечен, стоило ли из-за чьей-то зависти лишать себя счастья быть вместе?
Гарем захлебывался в потоке желчи, впору снова устраивать большую уборку, чтобы эту желчь отмыть. Ненавистная Хасеки переезжала во дворец Топкапы со своими слугами, оставляя остальных здесь!
Роксолана наблюдала за суетой во дворе, стоя у окна. Внизу Михримах толково распоряжалась тем, что следует брать, а что оставить. К чему тащить в Топкапы безнадежно провонявшие гарью ковры? Пусть останутся, где лежали.
Поделить ковры, посуду и прочее не трудно, куда трудней разделить людей. Те, кого не возьмут с собой, будут считаться обделенными, это враги на всю жизнь, их ли жизнь, ее ли…
Роксолана решила, что возьмет с собой только самых необходимых слуг, и нескольких евнухов, содержание гарема при этом не только не урежет, но и увеличит, велит купить новые ковры, новые занавеси, новые вещи взамен тех, которые нельзя отмыть или выветрить. Понимала, что тем не купит благодарность, но и покупать не желала.
Она ненавидела гарем? Пожалуй. Но не весь, не любила и даже презирала бездельниц, только и способных сладко есть, долго спать и чесать языками, изливая потоки грязи на тех, кто для них недостижим. Кто мешал этим лентяйкам, большинство из которых за пару лет пребывания в гареме превращался из стройных девушек в толстых коров, заняться учебой? Им нашли бы учительниц, стоило только пожелать. Но одалиски даже Коран осваивали с трудом.
Кто мешал быть интересными Повелителю не только стройным станом или высокой грудью, привлекать не столько большими глазами или умениями на ложе, но и умом, способностью поддержать разговор, а не одни сплетни?
Иногда Сулеймана занимали и сплетни, он сам расспрашивал Роксолану, о чем болтают в гареме. Но с первых же дней она преподносила слухи со своими комментариями, которые нравились Повелителю куда больше даже самих слухов. Посмеяться над тем, как тоненькая Хуррем басит, пытаясь показать старую усатую повитуху, жившую в гареме, кажется, всегда, как она передразнивает кизляра-агу или важного бостанджия, под началом которого три старика-садовника…
Это превращалось в настоящий спектакль, случалось, султан, расшалившись, подыгрывал…
Кто еще видел Повелителя вот таким – шалившим? Никто, только она. Во всяком случае, Роксолана надеялась, что только она. Вот это простое человеческое счастье, например, возить на своей шее маленькую Михримах, которая при этом счастливо барабанит пятками по отцовскому телу с воплями «Но-о, мой конь!» или устроить игру с Мехмедом, прячась за занавесями и догоняя малыша… сближало их куда больше, чем любые ночные объятья.
Это могла дать только она, потому что остальные видели в нем Повелителя, которого надо ублажать. Другие ублажали, Хуррем просто любила. Конечно, она не забывала, что он Повелитель, не забывала кланяться, держать руки сложенными на животе впереди (чтобы были всегда на виду), не забывала опускать голову… Но это все перед другими, наедине они могли быть самими собой.
Нет, не так. Самой собой была она, Сулеймана пришлось долго приучать к этому. Он, выросший в жесткой системе гарема, привыкший к поклонам, к внешним проявлениям покорности, уважения, почитания, что не всегда соответствовало действительному отношению людей, привыкший ко лжи и ограничениям, смотрел на заразительно смеющуюся Хуррем с изумлением.

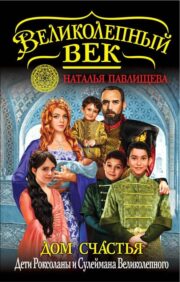
"Дом Счастья. Дети Роксоланы и Сулеймана Великолепного" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дом Счастья. Дети Роксоланы и Сулеймана Великолепного". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дом Счастья. Дети Роксоланы и Сулеймана Великолепного" друзьям в соцсетях.