Султан решил стать своим среди европейских королей? Зачем? Не лучше ли подружиться с персидским шахом, а если с европейцами, то не французами, а близкими, например, сербами, и вместе подчинить себе все Средиземноморье?
Мустафа признавал мудрость многих решений султана, но считал их заслугой Ибрагима-паши. На успехах и ошибках учился. Вдумчиво, сознательно, учился править. Интересовался экономикой, налогами, тем, как организована торговля… Ему бы в наставники Ибрагима… вместе горы бы свернули.
Но и здесь Мустафа решил быть осторожным, никаких Ибрагимов рядом, главный визирь будет только исполнять его волю, но никак не советовать и не диктовать никаких решений.
Училась и Махидевран. Она образцово организовала жизнь гарема, помня опыт валиде и ее мудрые наставления. Каждая женщина в гареме знала свое место и не пыталась занять чужое. Все только по воле хозяина – шехзаде Мустафы.
В Стамбуле соперница тоже управляла гаремом сама, причем, как сообщали, довольно толково. Но Хуррем Махидевран не указ, пусть себе, недолго ей радоваться. Время на пользу Махидевран, оно сокращало пребывание у власти роксоланки и приближало ее собственную власть.
Махидевран изменилась, сейчас мало кто узнал бы в этой строгой и степенной женщине и молоденькую влюбленную в своего повелителя девушку, счастливо ждущую в Манисе рождения первенца, и ленивую толстуху, в которую она превратилась за несколько лет безделья в султанском гареме после рождения Мустафы, и взъяренную фурию, царапающую лицо и таскающую за косы соперницу, и зареванную несчастную тень, изгнанную с глаз султана, и даже притихшую почитательницу Яхья-эфенди.
Теперь это была полная достоинства, мудрая, степенная красавица. Женщина успокоилась, а потому и красота стала иной, той самой, которая сохраняется надолго и поражает людей даже когда волосы красавицы уже седы. Из ее глаз исчез злой блеск, Махидевран никому не завидовала, потому что знала: у нее все лучшее впереди. Взор теперь был не властным, не яростным или надменным, а лучистым и понимающим, это взор мудрой женщины.
Оказалось, что жить вдали от стамбульской суеты и ни с кем не соперничать так легко и приятно… Оставалось просто ждать и радоваться внукам.
О Махидевран говорили, что она помолодела и похорошела с тех пор, как вернулась из Стамбула. Но кто видел?
Только служанки, готовые льстить и говорить комплименты даже когда стоит посочувствовать. Да еще она сама, глядя в зеркало.
Махидевран смотрелась в него и видела женщину, которую Сулейман ни за что не променял бы на эту ведьму Хуррем! Будь она в Стамбуле вот такой – спокойной и уверенной, никогда бы не потеряла любовь Повелителя. А она сгорала от злости, от сдерживаемой ярости, от ненависти. Вместо того чтобы бороться за сердце любимого человека, боролась с соперницей. Ненависть еще никого не украшала, обида не делала привлекательной, Махидевран потеряла приязнь султана и стала ему не нужна.
Потребовались несколько лет, чтобы прийти в себя, но это случилось. И теперь из волшебного стекла на Махидевран смотрела пусть постаревшая, но очень красивая и достойная женщина. И она не сомневалась, что увидев такую Махидевран, Сулейман не сможет не откликнуться сердцем. Да, он даровал ей свободу, а вернуть в гарем свободную женщину можно только женившись на ней. Но Махидевран не ждала этого, ей только очень хотелось увидеть заинтересованный блеск в глазах Сулеймана, почувствовать прикосновение его тонких сильных пальцев к своей щеке, самой провести по волосам или орлиному носу…
Несмотря на все произошедшее, Махидевран все еще любила Сулеймана, не как султана и своего господина, а просто как мужчину. Теперь даже любовь стала иной, за султана не нужно бороться, не нужно с тревогой следить за каждым словом, каждым взглядом, не нужно ревновать, страдать от бессилия… Теперь любовь стала односторонней, принадлежала только ей, а потому могла быть любой, в том числе и счастливой.
Удивительно, но даже любить Сулеймана на расстоянии получалось лучше и легче. В мыслях он был таким, каким Махидевран хотела его видеть – нежным, внимательным, заботливым. Сулейман таким и был, но там, в Стамбуле эта нежность принадлежала не ей, а сопернице, а здесь в мыслях, в воспоминаниях – только ей.
Махидевран согласилась с сыном – не вспоминать о проклятой сопернице и ее детях вообще, словно их и нет вовсе. А своего часа просто ждать, не теряя достоинства.
…Удалось не совсем. Все те годы шли, Мустафа взрослел, многое передумал, прежде всего о том, как будет править, многое хотел бы узнать. Но не от султана, а сразу от тех, кем готовился править.
Мустафе двадцать пять – возраст, в котором стал султаном его отец.
Возможно, шехзаде и не замышлял ничего плохого, он даже хотел как лучше, хотел просто посоветоваться с санджакбеями на местах о том, что следовало бы изменить, заодно спрашивал, не слишком ли много развелось в Стамбуле иностранцев, как относиться к иноверцам, с кем следовало бы воевать, куда направить бег османских коней – на запад или на восток, с кем из соседних правителей дружить, а с кем лучше воевать…
Хорошие вопросы, толковые, даже мудрые. Если бы только их задавал не наследник престола и не за спиной отца.
Немало санджакбеев, получив такие письма, почувствовали холодок в желудках.
Что делать? Ответить на вопросы честно, но дело не в самих вопросах, спросил бы султан – ответили бы без запинки, но спрашивал наследник. Ответишь – решат, что поддерживаешь его против правящего султана, не ответишь… а вдруг Мустафа завтра окажется у власти и припомнит обиду?
Ох, непростое положение было у санджак-беев, непростое. Большинство сделали вид, что никаких посланий не получали, мол, сгинул гонец где-то по дороге, сейчас немало бандитов развелось, готовых обобрать даже гонцов.
Но нашлись те, кто предпочел нынешнего султана (кто же знает, сколько он еще будет править?) или даже его зятя Рустема-пашу, за которого Сулейман отдал свою любимицу Михримах. Рустем-паша чем-то похож на Ибрагима, только власть не та. Босняк, попавший в столицу по девширме – набору мальчиков из провинций, успешно окончил дворцовую школу, успешно воевал, а потом управлял провинцией. И вот стал вторым визирем, а следом и зятем Повелителя.
Рустема-пашу побаивались за острый язык, способный высмеять кого угодно, только троих не задевал языкастый Рустем: самого султана, всемогущую свою тещу и жену Михримах. Впрочем, Михримах не задевал только на людях, наедине они друг дружке спуска не давали, послушать, так казалось, что смертельная вражда, а это была любовь.
Вот Рустему-паше и передали сначала одно письмо, потом второе, подсказали имена тех, кто получил такие же. Своя жизнь дороже жизни Мустафы, санджакбеи упираться не стали, тайно, но отдали одному то, что также тайно получили от другого.
Теперь голова заболела у Рустема-паши. Тайное обязательно становится явным, так или иначе, станет известно, кто именно показал Повелителю письма его старшего сына. И не показать тоже нельзя, найдутся и такие, кто пойдет в обход самого Рустема.
– Проклятый самоуверенный глупец! – ругал наследника Рустем. – Не сидится ему в Манисе спокойно!
В самих письмах ничего о свержении султана не было, но если наследник советуется о предстоящем правлении, значит, он к нему готовится. Ладно бы готовился у отца под присмотром и спрашивал вон на заседании Дивана вслух, так ведь письма отправлял тайно. Значит, и готовится тайно? К чему?
У Рустема-паши по спине полз противный холодок…
Посоветоваться решил даже не с женой, чего Михримах мужу не простила, а с тещей.
Роксолана умному босняку не просто благоволила, заметив симпатию дочери и Рустема-паши друг к дружке, сама предложила Сулейману этот брак и не ошиблась.
Она держала в руках письма, пытаясь понять, не подложные ли они. Печать Мустафы, но кто знает, о чем думал и ради чего писал эти письма шехзаде. Письма умные, толковые, самому султану пригодились бы заданные в них вопросы. Чувствовалось, что не ради бунта или свержения отца писал Мустафа, а чтобы действительно понять, с чего начать, чему уделить больше внимания, в какую сторону повернуть.
Серьезность заданных вопросов, их разумность убедили Роксолану, что это не подлог, ради подлога не стоило так стараться, достаточно простого упоминания о предстоящих переделках.
Умница. Но как мог этот умница так рисковать своей головой? И ведь не только своей.
– Покажи Повелителю, – вздохнула султанша.
– Может, лучше вы, госпожа?
– Боишься? – зеленые, как у Михримах, глаза сверкнули насмешкой. – Не бойся, даже с Мустафой Повелитель ничего не сделает. Не казнит.
– Почему вы так уверены?
Роксолана протянула листы Рустему-паше:
– Умно написано, очень умно. Это говорит о том, что Мустафа будет прекрасным султаном, не просто сядет на трон, а будет править.
– И о том, что готовится…
Она усмехнулась невесело, вот оно, началось…
– Да, готовится. Мустафе сколько, двадцать пять? Зря времени не теряет. Это не причина, чтобы казнить, Мустафа не призывает к удалению султана. Но Повелитель о таких размышлениях наследника знать должен. Покажи.
Это же Роксолана вечером повторила и Сулейману. Тот изумился:
– Ты знала?
– Да. Это я сказала Рустему-паше показать письма вам.
– Хочешь, чтобы я казнил Мустафу, как казнил Ибрагима?
Смотрели друг другу в глаза, не отрываясь, Роксолана бешеный взгляд Сулеймана выдержала, своих очей не отвела. Ответила все так же спокойно:
– Нет, не хочу. Ибрагим-паша себя уже султаном звал и чувствовал, и даже вел, а Мустафа только готовится. И размышляет умно, толково. Я была бы рада, если бы мои сыновья умели так рассуждать.
Сулейман хмыкнул:
– Ты умней, чем я думал.
– Потому что не потребовала казнить соперника своих сыновей? Я думаю не только о себе и о них, прежде всего о вас.
Звучало слишком красиво, чтобы быть правдой, но Роксолана не стала ничего добавлять, горячо убеждать султана в своей бескорыстности и заботе о нем и об империи. И Сулейман мысленно хмыкнул снова:
– А может и правда…
Все, кто знали о письмах, притихли, выжидая. Что будет, что решит султан?
Притих в Манисе и Мустафа. Ему тоже донесли о том, что письма попали к падишаху. Шехзаде не мог не понимать, какие это вызовет последствия. Но он готов оправдываться, ведь не желал ничего плохого, султан занят, ему не до учебы сына, вот сын и решил сам разобраться. Тем самым помочь отцу…
Объяснение с натяжкой, но что возразишь?
Потому, даже когда в Манису прибыл гонец, не слишком испугался, во всяком случае, испуга не показал, был готов ехать в Стамбул, только решил заранее дать знать янычарам, чтобы поддержали своего любимца. Где-то в глубине души очень надеялся, что эта поддержка станет первым этапом его восхождения к власти.
Двадцатипятилетний Мустафа был всем хорош – красив, силен, ловок, умен… Его обожали и воины, и женщины, любили те, кем он управлял, и те, кто ему советовал. Шехзаде советы выслушивал снисходительно, даже от старых и мудрых, потом говорил сам – также красиво и иногда пусто. Рустем-паша не удержался и съязвил по этому поводу:
– Какая разница, что говорит, главное – губы красиво шевелятся, смотришь и слушать забываешь.
Это было правдой, и Мустафа этим пользовался.
Он был готов приехать в Стамбул и говорить там перед Диваном, перед султаном, перед янычарами, заведомо зная, что сумеет оправдаться. Но час, когда султан проглотит эту обиду, станет началом его падения. Мустафа уже видел свой триумф, слышал восторженные крики янычар, хмыканье пашей в Диване, приветственный рев толпы, которая тоже будет его боготворить, в чем шехзаде не сомневался.
Люди любят победителей и тех, кого безвинно обвиняют. Мустафа считал себя первым и был готов выступить в роли второго, чтобы привлечь к себе внимание. В Стамбул так в Стамбул! Еще посмотрим, кому это пойдет на пользу. Даже если придется вернуться в Манису, все равно это будет победой, первой ее частью.
Но гонец привез странную весть: Повелитель не просто не желал слушать своего наследника, не давал ему возможности завладеть вниманием людей, он вообще не упоминал о письмах и не требовал оправданий. Султан… отправлял старшего сына вместо Манисы в Амасью!
– Куда? – ахнула Махидевран, услышав новость.
Мустафа поморщился, но ответить матери резко не посмел.
– В Амасью, матушка. Понимаю, что далеко, но приказы Повелителя нужно выполнять.
– А сюда кто?
Только тут Мустафа сообразил поинтересоваться, кто же сменит его в Манисе, благословенной, так любимой всеми Манисе.
Услышав имя Мехмеда, Махидевран ахнула:
– Что ты натворил, Мустафа? Что случилось, почему Повелитель назвал наследником сына Хуррем?
Хотел сказать, что ничего, но солгать матери тоже не смог, рассказал о письмах и о том, что они попали в руки Рустему-паше. По тому, как сильно испугалась Махидевран, понял, что стоял на самом краю. Но у Мустафы ощущения провала не было, хотя покидать ставшую за три года родной Манису не хотелось.

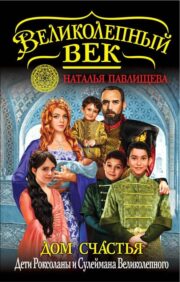
"Дом Счастья. Дети Роксоланы и Сулеймана Великолепного" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дом Счастья. Дети Роксоланы и Сулеймана Великолепного". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дом Счастья. Дети Роксоланы и Сулеймана Великолепного" друзьям в соцсетях.