— Все, что угодно.
— Не говорите о нашей поездке моим… моим родителям.
— Не буду спрашивать почему. Полагаю, что и это тоже тайна.
— Да, — смутилась девушка.
— Ну что же… До завтра!
И Нарышкин быстро вышел.
Василий Федорович обещание свое сдержал. Едва покинув дом Обресковых, отправился он к дяде. Тот был дома и зело удивился визиту своего родственника, до того посещениями его не баловавшего.
Нервно пройдясь из угла в угол, молодой человек беспорядочно изложил свою просьбу: дескать, некой молодой даме, чье имя он назвать пока не может, необходимо срочно видеть Семена Петровича. Хорошо бы завтра, так как это очень важно.
— Что за дама? — спросил дядя.
— Не могу вам этого сказать. Впрочем, она не дама, а пока еще девица.
— Та-ак, значит, дело не обошлось без амуров. Отчего же такие тайны? Что за инкогнито? Что это ты вдруг таким жантильным[2] сделался, друг мой? Прежде не водилось за тобой такого обхождения.
— Ах дядюшка! Будто я монстр какой! Вы уж перед ней своих мыслей не выскажете!
— Не выскажу, Василий. Я хоть и стар, а понимание у меня сохранилось. Небось политес мне сам Петр Алексеевич в башку дубиною вкладывал. Такие-то уроки не скоро позабудешь. Только ты сам не вздумай перед девицею набрасывать пудреман[3] и мушки лепить, как баба какая.
— Дядя!
— Да что дядя! Веди свою красотку. Ждать вас буду около полудня.
6
Нарышкин тотчас, как только заручился дядиным согласием, отправил Наташе тайную записочку. Затем же на словах получил ее согласие и в половине двенадцатого следующего дня уже был у Обресковых.
Получив порцию любезностей от Аграфены Ильиничны и воздав ей тем же, вывел он Наталью Петровну на прогулку, усадил в экипаж и, не теряя времени, повез в дом дяди.
Старик вышел сразу, как только доложили ему о приходе племянника. Хозяин и гости церемонно и скованно представились и раскланялись, и тут, подойдя ближе, Семен Петрович разглядел лицо своей гости.
— Мне кажется, будто я уже видел вас, — сказал он. — Странно, однако, ведь мы раньше не встречались, Наталья Петровна.
— Да, меня вы раньше не видели, но знали мою мать.
— Аграфену Ильиничну?
— Нет. — Она близко подошла к Семену Петровичу и почти прошептала ему на ухо: — Наталью Сергеевну Волынскую, жену Волынского Ивана.
При этих словах старик побледнел и отшатнулся от Наташи.
— Нет! Это невозможно!
Василий слов Наташи не слышал, но по тому, как она попыталась скрыть от него свое сообщение, понял, что он тут лишний. Это задело его, но он решил сдержаться и оставить дядю наедине с гостьей.
— Нет, Василий, останься, — заметив его ретираду, попросил Семен Петрович. — Тебе, думаю, можно доверить эту тайну…
Он посмотрел на Наташу:
— Не думал я, что ты жива, дитя. Похоронил и оплакал и мать твою, и тебя уже много лет назад, нет… Не кончились еще ваши злоключения, раз тебе все сделалось известно. Только откуда?
И Наташа поведала о шкатулке, ключах и письме, которое прочла.
— Но я прошу вас! Я пришла сюда, чтобы услышать от вас рассказ о моей матери и об отце. И еще мне нужен совет: что делать дальше? Как поступить?
Семен Петрович посмотрел на племянника, стоявшего у окна и не пришедшего в себя от изумления от столь крутого поворота событий, затем на Наташу.
— Что ж…
Он помолчал, затем сел рядом с ней и взял ее за руку.
— Ты так похожа на свою мать, какой она была в те дни, когда я отвез ее в Италию, — голос его был мягок и спокоен. — И не стоит тебе знать всего. Тайны… они нехороши… Они счастья не приносят… Я вижу, племянник мой без ума от тебя.
Услышав это, Василий покраснел, но смолчал.
— Он хороший мальчик… молчи, молчи! — прикрикнул он на племянника, который порывался что-то сказать. — Выходи за него, и вы будете счастливы. Не повторяй ошибки своей матери. Ты читала ее письмо, знаешь обстоятельства ее жизни, изложенные ею самой. Разве мало тебе этого?
— Я все понимаю… Но… — Наташа была смущена.
Она не знала, как признаться в том, что Василий ей нравится, но любви к нему нет в ее сердце. Отринув смущение, девушка вновь задала тот главный вопрос, ради которого явилась сюда:
— Я хочу узнать все о моей матери. В ее послании прямо так и говорится, что, если я хочу все узнать, я должна обратиться к вам. И вы все расскажете мне. А еще…
— Что?
— Я хочу спросить… Только вы не серчайте на меня, пожалуйста. — Она умоляюще посмотрела на него.
— Конечно. — Семен Петрович ласково улыбнулся. — Спрашивай.
— Почему вы не вернулись в Италию? К… к ней?..
— Не по своей воле, детка… Не по своей… Вот послушай… А ты, Василий, присядь-ка тут рядом и тоже послушай. Тебе это может полезным быть.
Только вернулся я из Италии, не успел и в дом войти, как тут же на улице остановлен был «словом и делом». Меня скрутили, отвели в Тайную канцелярию. Позже уже узнал я, что наветил на меня Волынский Артемий. Уж как он прознал о нашем с Натальей сговоре — мне то не ведомо. Но оказался я в узилище. Уж как там с нами говорили, что делали… Мучения свои описывать не стану, а только знайте, мало кто там выдерживал. Уж на что люди крепкие, а и то ломались.
Обвиняли меня в заговоре. Будто я против царицы пошел, бунт хотел учинить и другую на ее место хотел поставить — самозванку. Крепился я из последних сил, и вот тому благодаря, что я только молчал и ни слова не проронил, спас я свою жизнь. Приговорили меня к битью кнутом и ссылке. После наказания, когда повезли меня в ссылку, был я без памяти. Никого из родных или близких мне увидеть так и не удалось с тех пор, как я из Италии приехал.
И вот так меня, беспамятного, довезли аж до самой Казани. Там оставили в остроге, думали, что помру я. Ан нет, выжил. А оттуда уже повлекли меня в Тобольск, где пробыть мне довелось несколько лет сначала в крепости, потом на поселении, до самого воцарения Елисаветы Петровны милостивой, которая из той ссылки меня вызволила.
Кого только мне встретить не пришлось там из наших бояр! А жальче всех было мне Наталью Долгорукую, Иванову жену. Долгорукие ведь своим склочным характером премного были известны, и слухи из Березова о них до Тобольска шли и далее. А уж когда Ивана в Шлиссельбург заточили да четвертовали, как о том уж после известно стало, как Наталья Борисовна молила царицу! Не сжалилась она над ней… Да…
Ну вот, Елисавета Петровна призвала меня ко двору своему. Там просился я у ней отбыть в Италию, на юг, для поправки якобы здоровья. Однако, к чести своей и предков своих скажу, что ни пытки, ни ссылка меня не подломили. Вроде, я как даже крепче стал. Богатырство в нас есть, это и по Василию теперь видно. — Семен с гордостью потрепал племянника по плечу. Затем продолжил: — Прибыл я по разрешению императрицыному в Италию, во Флоренцию, кинулся первым долгом туда, где Наташу мою оставил… Не было там никого. Даже толком никто сначала и не вспомнил, о ком я спрашиваю… Потом уже, когда я про синьора Збарру интересовался, припомнили. Сказали мне, что сам Збарра умер. А допреж того умерла и старая жена его. А после женился он на молодой, да та молодуха, по смерти супружника своего, уехала. А женщина, что жила там, таинственная иностранка — умерла родами, а ребенок ее пропал. Будто сначала взяла его к себе старая синьора Збарра, а как померла, так муж отнес девочку в воспитательный дом.
Конечно, тут же я в воспитательный дом отправился, но там долго тоже ничего припомнить не могли. Одна только монахиня, молодая еще, сказал, что была у них года два, а то и три тому назад девочка с именем Наташа. Да, именно это имя я называл при расспросах… Наташа… Да еще спрашивал про синьору Ручелаи. Так монахиня и вспомнила про девочку с таким именем. Но узнал я, что девочку взял к себе в дом какой-то проезжий иноземец, а кто он, откуда — про то никто не ведал. И страшный это удар для меня был, я подумал, что судьба ополчилась против меня и отняла сначала свободу, потом любимую женщину и не дала мне даже дитя ее пригреть, в доказательство моей любви.
А вот теперь, — тут он посмотрел на Наташу, — теперь я узнал, что живешь ты здесь, в семье Обрескова. Что ты жива и ни в чем нет тебе нужды. А, бывало, как подумаю, что плохо тебе, что горе ты терпишь или вообще нет тебя в живых, так тоскливо на душе делалось. Думал я, что, не вмешайся тогда, жила бы ты себе в довольстве при монастыре, или в семье отца моего, которому бабкой твоей была завещана опека над твоей матерью… Эх…
Тяжкий вздох вырвался из груди Семена Петровича. Сожаления об ушедшей молодости, потерянном счастье, которые так ясно возродились при виде Наташи. Он поднялся и отошел к окну. Молодые люди того не заметили, но он украдкой отер слезу с глаз и ясно вспомнилось ему лицо его Наташи, которая так горько умерла на чужбине, всеми забытая, никем не оплаканная…
— Наташа, дитя мое, — страстно начал он, внезапно обернувшись к девушке, — береги себя! Не поминай прошлого, послушай меня, старика! Забудь о том, кто родня твоя, записки сожги, ничего не узнавай, а что знаешь — похорони! Выходи за Василия, — он соединил их руки, да так крепко, что даже Василий опешил, — и уезжай из столицы. Спрячься, схоронись, а Василий убережет тебя! Не повтори судьбу своей матери. Другой мужчина скоро предаст тебя, а Василий будет верен, я это знаю, он сбережет тебя от лихой судьбы… Ведь не послушаешь… — тихо прибавил он, — а в этом медальоне портрет твоей матери. — И он указал на старый медальон, что Наташа впервые одела сегодня. — Ты его не носи, сними…
7
Как ни поразило Наташу все произошедшее, скрыть свои чувства от близких она сумела. Расспросов никаких не последовало. Жизнь шла своим чередом — в балах да забавах. Все также молодой Нарышкин посещал их дом, вселяя надежды в Петра Николаевича относительно будущности его дочери.
Но ухаживания и внимание молодого человека не заботили Наташу, она оставалась к ним равнодушной. И новая встреча с гвардейцем Плещеевым забрала все ее внимание. На балу у Толстых Александр Матвеевич, заметив Наташу, тут же ангажировал ее на танец, и она увлеклась им.
Александр Матвеевич был человеком молодым. Ему только дошел двадцать третий год, но он уже служил в гвардии и гордился этим страшно. Собою он был хорош — и лицом, и фигурою — всем взял. Одним словом, был он предметом дамского восхищения. К слову сказать, Наташа была под стать любому красавцу, хотя вопреки моде была она тонка и про лицо ее, от природы бледненькое, нельзя было сказать «кровь с молоком», как в те года было принято у тогдашних красавиц. Но оно дышало подлинным чувством и было милым, что подчас ценнее иной красоты.
Наташа подметила, что молодой офицер старается часто бывать на тех балах, на которые приглашают их семейство, и непременно старается танцевать с нею. Для него она всегда оставляла танец, и он никогда не обманывал ее ожиданий. Нарышкин также не остался безучастным к новому повороту событий. Он ревновал — жестоко и страшно. Пару раз хотел даже поссориться с Плещеевым и устроить дуэль, но всякий раз останавливал себя, сознавая, какое несчастье принесет Наташе смерть Плещеева (а в том, что тот на дуэли погибнет, Нарышкин не сомневался).
Одним словом, Нарышкин был влюблен, Плещеев увлечен, а Наташа… Она не знала, чего ей хочется. Один доказал свою безусловную преданность, другой не имел еще такой возможности, но его восхищение ясно читалось во взгляде молодого человека, что льстила молодой девушке.
И это восхищение даже делало Наташе некоторую компрометацию, о чем заметила Аграфена Ильинична дочери как-то в разговоре. Но Наташа лишь беспечно улыбнулась и не изменяла своего поведения.
Так, слово за слово, минута за минутою — и любовный пожар разгорелся из малой искорки. Не услуги и преданность, не отличные достоинства и особые качества, а какой-то неведомый флюид затмил собой все и соединил двух людей.
Василий Федорович, страдая, поджидал того момента, когда можно будет объясниться с Наташей без помех. То есть необходим был бал, на который докучливый соперник зван не будет. Случай не заставил себя долго ждать. Императрица как-то пожелала видеть лишь узкий круг, который, впрочем, составлял около сотни человек, но Плещеев в него включен не был, тогда как Василий Федорович и Петр Николаевич с семейством были приглашены.
Улучив удобную минутку, молодой человек отозвал Наталью Петровну и изъяснил ей свои чувства. Правда, он так путался, более увлекаясь обвинением соперника, что мало преуспел.
— Василий Федорович, в чем же вы обвиняете Александра Матвеевича?

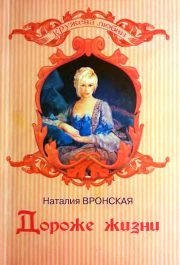
"Дороже жизни" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дороже жизни". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дороже жизни" друзьям в соцсетях.