— Стало быть, вы позволяете мне действовать в этом деле от своего имени?
— Да. И я буду вам только благодарен.
На том мужчины расстались, пожав друг другу руки, и Василий Федорович, который места себе не находил с того момента, как узнал о неуместной болтливости Плещеева и последовавшим затем аресте Наташи, обрел наконец цель, а вместе с нею и спокойствие.
13
Первым делом Нарышкин бросился к Ивану Шувалову. Иван, в отличие от своих кузенов Петра и Александра, был человеком простым и нечестолюбивым. Главным в своей жизни почитал он покровительство изящным искусствам и по природе был человеком добрым. Судьба привела его в объятия Елизаветы, еще более тем укрепив фамилию Шуваловых у власти. Но, отдавая должное Ивану, можно было сказать, что он никогда не пользовался оной властью в собственных интересах и отказывался от многих подарков императрицы.
Нарышкин с Шуваловым могли бы назваться добрыми знакомцами, но не друзьями. Однако, зная добрый нрав Ивана, Василий без колебаний бросился к нему со своей просьбой.
Тем временем старший из Шуваловых, граф Александр, уже был с докладом у царицы. Такое тонкое дело, как появление родственника царского дома, мнимого или действительного, требовало тщательнейшего рассмотрения. Причем решение по данному делу должна была принять императрица самолично.
Императрица была не злой женщиной, однако находилась в затруднительном положении со дня своего восшествия на престол. Переворот, ею учиненный, поставил ее царствование невольно под угрозу, ибо жил в крепости наследник Иоанн, отпрыск Брауншвейгского дома, который имел все законные претензии на российский престол.
Императрица боялась, что однажды сторонники Иоанна или, вернее, противники ее самой поднимут головы, и под знаменем царевича свергнут ее с трона.
Прошло уже много лет с того дня, как цесаревна стала императрицей, но страх не оставлял ее, ибо знала она, как тяжка участь свергнутого властителя. К тому же призраки самозванцев терзали русскую корону. И теперь любой человек, найденный ли родственник или самозванец, был злейшим врагом императрицы. Доклад графа Александра Елизавета выслушала в молчании и крайнем смятении. Рядом с ней находился ее фаворит Иван Шувалов, за руку которого она держалась, переживая опасную весть. Новая самозванка?
— Как странно, — сказала императрица по окончании доклада. — Я видела эту девушку. Но и предположить не могла, что столь опасные фантазии взбредут ей в голову, тем более что она дочь преданного мне человека.
— Ваше Величество, фантазии ли это? — спросил граф Александр.
— Что? — Императрица пристально посмотрела на него.
— Найденные у ней бумаги свидетельствуют в пользу того, что ее слова — не ложь. Трудно, однако ж, доказать и ее правоту, но ежели оные бумаги попадут в сильные руки, то… Кто знает, чем это может обернуться?
— Вы, стало быть, думаете, что она и правда… Романова?..
— Мне сложно утверждать это наверняка, но если это так… То эта девица еще опаснее, чем можно было предположить. Так или иначе, но и ею, и ее бумагами вполне можно ловко манипулировать, оказывая определенное давление на вас, Ваше Величество.
— Так. Это верно… Но бумаги у вас?
— Да.
— Уничтожьте их, граф.
— Разумеется, Ваше Величество.
Елизавета помолчала.
— Как мне ни жаль, но девушку эту… Эту… самозванку надо примерно наказать.
— Тут лучший бы выход был — лишение жизни…
— Нет! Никаких казней! Мой закон я не отменю!
— Тогда крепость? И строжайшее содержание?
— Да, граф. Исполняйте. И доложитесь мне. Только интересно… Что Петр Николаевич? Он знал обо всем, что надумала его дочь?
— Она ему не родная дочь, позвольте обратить на это ваше внимание, государыня, — поклонился граф.
— И все же она жила в его доме. Что известно ему? Надо бы это выяснить.
— Это вполне можно проверить. А также проверить и супругу его, и сына. Кто знает, насколько они замешаны в этом деле?
— Хорошо. Ступайте, граф. — Елизавета протянула ему руку.
Граф Александр галантно поклонился императрице, поцеловав руку, милостиво предложенную ему, вышел.
— Ваня, голубчик мой… Как тяжко-то это все… — Елизавета привлекла молодого человека к себе.
Иван обнял ее:
— Сердце мое, не бери в голову.
— Как бы это все выяснить в обход твоего брата? — спросила Елизавета, И продолжила: — Все же, Иоанн Брауншвейгский — милославская родня, а она, ежели все то, что в ее бумагах сказано, есть правда — нарышкинская. А стало быть, мне она — племянница, близкая родня…
— Ежели желаешь, душенька, я сам этим займусь. Гладишь, что прояснится?
— Да, друг мой, ты премного меня одолжишь!
14
— Неужели это правда? — Иван задумчиво покачал головой. — Знаешь, Василий, если б я не знал тебя давно, я б подумал, что ты выдумываешь.
— Это правда. Если тебе мало моих слов, обратись к моему дяде. Ты знаешь его, знаешь, как он предан императрице. Его ты не будешь подозревать во лжи!
— Не кипятись, я и не думал, что ты мог солгать в таком деле. А уж слова Семена Петровича!..
— Иван, поверь, мой интерес тут только один — я люблю Наталью Петровну. Она не преступница! Она… она просто доверилась не тому человеку… А этот болтун, этот дурак!.. — Нарышкин вскочил с кресла и бросился к окну.
Ему не хватало свежего воздуха, он хотел вдохнуть поглубже, чтобы успокоиться.
— Я сделаю все, что смогу, Василий. — Шувалов успокаивающе положил руку приятелю на плечо.
— Я знаю, твоим словам можно верить… Если все-таки ничего сделать будет нельзя, если она… В общем, — Нарышкин решительно повернулся к Шувалову, — я хотел бы разделить ее участь. Если только Наталья Петровна будет согласна, — тихо добавил он.
Шувалов посмотрел на молодого человека и покачал головой. При всем добросердечии и при всей мягкости Шувалова, при всем увлечении его изящным и великим столь пылкий порыв не мог не удивить фаворита. Это было ему если не чуждо, то непонятно. Он не разделял стремления его молодого приятеля к такой развязке и только и мог, что молча покачать головою.
Иван Шувалов, как и обещался, передал свой разговор с Нарышкиным императрице. Но к ней он прибыл не один, а с Семеном Нарышкиным. Вид родственника, его рассказ тронули Елизавету до глубины души.
Семен пересказал ей все так, как говорил когда-то Наташе. Он умолял императрицу пощадить девушку. Ему горько было думать, что дочь некогда любимой им женщины так же тяжело и безрадостно окончит свои дни, как когда-то ее мать. И именно ему придется корить себя за ее гибель.
Когда Нарышкин ушел, Елизавета задумалась.
— Я бы очень хотела внять его просьбам. И если бы не тот молодой человек Плещеев… Как представить его слова?
— Как оговор, — ответил ей Иван. — Желание избавиться как-нибудь от наказания заставило его оговорить себя и девицу Обрескову в небывалых преступлениях.
— Надо бы позвать графа Шувалова, — задумчиво произнесла императрица. — Все это будет очень сложно… Делу дан ход, есть и свидетели, к тому же она… Нет! Решительно ничего нельзя повернуть вспять окончательно!
— Что же будет?
— Я поговорю с графом Александром о смягчении участи моей бедной родственницы.
Императрица произнесла слово «родственница» так просто и естественно по отношению к Наташе, что Шувалов уже не мог усомниться в том, насколько в лучшую сторону изменится участь девушки, за которую он просил только что.
Произошло даже более того, что Василий и Иван Шувалов ожидали от Елизаветы. Она отправилась в крепость, где была заключена Наталья Петровна, чтобы лично говорить с ней. Свидетелей этого разговора не было. О чем говорилось меж ними, осталось тайной, ибо впоследствии ни сама царственная тетка, ни Наташа не признавались в этом никому. И ни фаворит, ни преданный защитник и влюбленный никогда не узнали ни единой подробности этого разговора.
Императрица вовсе не обязана была никому отчетом, а Наташа, казалось, очень хорошо усвоила урок излишней своей доверчивости. Иной раз сдержанность более полезна в обществе, чем неуемная откровенность.
Дело каким-то образом было замято, ибо граф Александр Шувалов получил на это особое распоряжение императрицы. Однако пострадавшим все-таки стал Плещеев. Что же, на это можно было только сказать, что он сам виноват в своем несчастье.
Приговор его огласили в один из пасмурных петербургских дней перед зданием Двенадцати коллегий. В прочитанном на площади объявлении было сказано, что императрица «по природному своему великодушию сменила смерть на сечение кнутом и ссылку».
Дни свои злосчастный Плещеев окончил в Селенгинске, скончавшись там от лишений и болезней всего через два года после водворения его туда.
Однако ничего этого еще известно не было, когда с Наташей приходила проститься Аграфена Ильинична и плакала, предчувствуя разлуку по всей вероятности вечную. Императрицей было приказано отправляться Наталье Петровне в далекий Томск.
Сборы были ее недолгими, но расставание — горьким. Отец, приемный ее отец, так и не смог простить ей того огорчения и дворцового охлаждения, которое она принесла ему. Мать только плакала. Брата своего она не увидела, а более никто не пришел с ней проститься. Но при всех печалях Наташа не унывала. В ней появилась особая сила, внутреннее спокойствие. Испытания укрепили ее. Проведя столько времени одна в заключении, она не сломалась, не сделалась несчастной. Она ждала, терпела — и была вознаграждена уверенностью, родившейся в ней, силой духа и надеждами на лучшее.
Ехать ей предстояло с одной только служанкой, которую разрешили ей взять с собой и то лишь потому, что ей предстояло отныне оказаться только в обществе мужчин — своих конвоиров. Ничего более о своем пути и о жизни в месте отныне ей предназначенном она пока не знала.
15
Первая остановка предстояла ей в небольшой деревеньке в десяти верстах от Москвы, где ее ждали Нарышкины. Выйдя из закрытой кареты, в которой ее везли, Наташа увидела Василия Федоровича, стоявшего рядом со станцией. Он кинулся к ней навстречу и ему никто не сделал препятствий. Он провел Наташу в станцию — темную избу с маленьким окошком — усадил ее и опустился рядом с нею.
— Как это возможно? — Наташа была поражена.
Она-то думала, что он давно позабыл о ней и даже если не забыл, то теперь их встреча абсолютно невозможна. Но вот он рядом — и девушка заплакала, впервые за долгие месяцы. Даже при расставании с матерью она не плакала.
— Милая моя, дорогая… — Василий целовал ей руки. — Я просил, я умолял и мне позволили… Позволили встретиться здесь с тобой и задать тебе только один вопрос…
— Вопрос? — Наташа смотрела на него сквозь слезы.
— Да, ангел мой. Ты же знаешь, что я люблю тебя… И ничего для меня не изменилось и не могло измениться. И я спрашиваю тебя: станешь ли ты моей женой?
— Я не могу, не могу! Вы не должны губить свою жизнь ради меня! Я не достойна этого! — Она зарыдала еще сильнее.
Василий крепко обнял ее и прижал к себе, целуя заплаканное лицо.
— Любовь моя! Разве можно сказать, что я гублю свою жизнь? Разве это погибель — быть рядом с вами?
— Я отвергла вас в благополучии, и я не могу дать согласие теперь, когда вы мне, признаюсь, нужнее всего! Я не могу быть такой жестокой с вами. Я не могу…
— Ваша жестокость в том, что вы даже теперь отвергаете меня! Я люблю вас, и мне все равно, куда следовать за вами и где быть с вами. Я говорил с государыней…
— Что?
— Да, я говорил с государыней. Я просил ее дать мне позволение на наш брак — и она согласилась. Разве вас не удивило то, что нам разрешили быть тут наедине?
— Да, удивило… Но, скажите, может быть, и смягчением своей участи я обязана только вам? — внезапно пораженная догадкой, спросила Наташа. — Мне говорили, что один человек… — Она осеклась.
— Нет, не только мне… И мой дядя, и я… Все, кто любят вас… И в память о вашей матушке… Прошу вас: если только вы любите меня или если хотя бы я не противен вам и вы чувствуете, что сможете полюбить меня со временем, ответьте мне «да»! В этом мое счастье, поверьте мне…
— Да… Я не знаю, люблю ли я, но мне кажется… Да, мне кажется, что ближе человека у меня теперь нет на целом свете. И если вы согласны на это, если это не останавливает и не оскорбляет вас…
— Нет. Я люблю вас так, что рано или поздно и в вашей душе смогу зажечь тот же огонь, что горит сейчас в моей. Моя страсть не останется безответной, я знаю. — Он прижал Наташу к себе и крепко ее поцеловал.

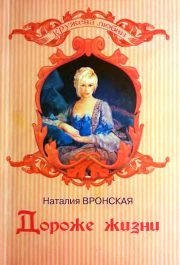
"Дороже жизни" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дороже жизни". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дороже жизни" друзьям в соцсетях.