— Мой господин! Ужели вы точно хотите сделать мне честь, возведя на ступени вашего герцогского трона? Клянусь быть преданной вам всей душой до последнего вздоха.
Старый Фальер был вне себя от восторга. Огонь пробежал по его жилам, когда Аннунциата коснулась его руки, голова закружилась, и он, чуть на зашатавшись, должен был сесть в кресло. Доброе мнение Бодоэри о силах восьмидесятилетнего старика, по-видимому, оказалось несколько преувеличенным. Бодоэри не мог даже скрыть появившейся по этому случаю на его губах легкой насмешливой улыбки, но скромная, невинная Аннунциата не поняла ничего, и счастье ее не было нарушено.
В последовавшем затем совещании между обоими стариками было решено, что свадьба будет справлена в величайшей тайне, и догаресса представится через несколько дней Синьории и народу как супруга дожа, уже будто бы прежде с ним обвенчанная и жившая во время Авиньонского посольства Фальера в Тревизо. Причиной такой предосторожности, по всей вероятности, было неловкое чувство, которое ощущал сам дож при одной только мысли — объявить себя женихом девятнадцатилетней девушки, что при известной склонности венецианцев к насмешкам и злоязычию могло привести к невыгодным для него шуткам.
Теперь мы просим читателей обратить внимание на одного прекрасно одетого юношу, гуляющего по Риальто с туго набитым кошельком в руках. Он ходит медленно, останавливается, вступает в разговор с евреями, турками, армянами, греками, продолжает с недовольным видом свой путь и наконец садится в гондолу, приказывая везти себя на площадь святого Марка, где опять начинает медленно бродить со сложенными на груди руками и с опущенным в землю взором. Молодой человек даже не замечает легкого шепота и украдкой бросаемых взглядов, вызванных его появлением на многих окружающих площадь балконах. Кто бы узнал в этом юноше нашего знакомого Антонио, еще так недавно лежавшего в нищенских лохмотьях на мраморных ступеньках таможни!
— Антонио! Здравствуй, мой голубчик Антонио! — вдруг раздался возле него голос старухи нищенки, сидевшей под портиком собора святого Марка, которую он, проходя мимо, совсем не заметил.
Быстро обернувшись, Антонио достал из кошелька полную горсть цехинов и хотел подать старухе, но она замахала руками и крикнула, рассмеявшись, пронзительным голосом:
— Оставь при себе свое золото! Мне оно не нужно, я богата и без того. А если ты точно хочешь сделать мне добро, то закажи мне новый плащ. Мой стал дыряв и плохо защищает от дождя и ветра. Да, сделай это мой добрый Антонио, но берегись Фондако, берегись Фондако!
Изумленный Антонио взглянул на изможденное, морщинистое лицо старухи, в котором странно перемешивались судорожный смех с выражением величайшего ужаса; когда же она, всплеснув костлявыми руками, снова крикнула раздирающим уши, пронзительным голосом: «Берегись Фондако!» — он не мог сдержаться и воскликнул в свою очередь.
— Ты, кажется, совсем сошла с ума, старуха!
Едва нищая услыхала эти слова, как лицо ее мгновенно побледнело, и она кубарем скатилась с мраморных ступеней лестницы. Антонио, прыгнув, едва подоспел и, схватив ее обеими руками, не дал ей сильно ушибиться.
— О мой голубчик! — заговорила старуха растроганным голосом. — Какое страшное вымолвил ты слово! Лучше убей меня сразу, только не говори таких слов. Ты и не подозреваешь, как тяжело меня обидел, меня, которая так тебя любит!
Сказав это, она закутала лицо своим рубищем, покрывавшим ее плечи на манер плаща, и зарыдала как ребенок. Растроганный Антонио взял ее на руки, перенес под портал церкви и усадил на мраморную скамью.
— Ты много сделала мне добра, старушка, — заговорил он ласковым голосом. — Ты спасла меня от смерти: не будь тебя, я лежал бы теперь где-нибудь на дне моря и никогда не удалось бы мне спасти дожа, заработав тем мои честные цехины. Но даже не сделай ты этого, я и так всегда чувствовал к тебе какое-то расположение, несмотря на то, что ты постоянно обходишься со мной странным и непонятным образом, вечно смеешься и кривляешься, так что порой я тебя просто боюсь. Но все-таки скажу тебе по совести, что даже когда я был бедным носильщиком, мой внутренний голос всегда заставлял меня отложить для тебя пару монет.
— О мой добрый, мой золотой Тонино! — воскликнула старуха, подняв к небу руки, так что костыль ее упал и покатился по мраморному полу. — Я это знаю! Знаю, что ты чувствуешь ко мне невольное расположение, но тс-с!.. Молчи об этом, молчи!
И она нагнулась за своим костылем. Антонио поднял его и подал ей. Старуха оперлась на него острым костлявым подбородком, уставилась в землю глазами и заговорила глухим, подавленным голосом:
— Скажи мне, мой голубчик, неужели ты не сохранил ни малейшего воспоминания о том, что было с тобой давным-давно, прежде чем ты очутился здесь несчастным бедняком и без куска хлеба?
Антонио глубоко вздохнул, сел возле старухи и, помолчав немного, начал так:
— Ах, старая! Я хорошо чувствую, что родился от родителей, живших в довольстве и счастье. Но о том, кто они были, а также что сталось с ними и со мной после, не осталось во мне никакого воспоминания! Точно сквозь сон, помню я черты лица статного, красивого человека, носившего меня на руках и баловавшего лакомствами. Также встает иногда перед моими глазами облик чудной, прекрасной женщины, ухаживавшей за мной, укладывавшей меня каждый вечер спать в мягкую, чистую постель и ласкавшей при всяком удобном случае. Оба они говорили со мной на каком-то неизвестном мне мягком, звучном языке, и помню, что я сам начинал лепетать что-то на этом языке. Когда я еще работал веслом на гондоле, товарищи часто дразнили меня, говоря, что я и по лицу, и по глазам, и по волосам должно быть урожденный немец; да я и сам думаю, что язык, на котором говорил мой благодетель, или, вернее, мой отец, был немецкий. Но самым живым воспоминанием о том времени осталась во мне одна ужасная ночь, когда, помню, я был внезапно разбужен отчаянным, душераздирающим криком. В доме стояла беготня, двери с шумом отворялись и затворялись. Необъяснимый страх до того овладел мною, что я начал громко плакать. Женщина, о которой я говорил, схватила меня на руки, зажала мне рот и, поспешно закутав в платок, выбежала со мной из дома. Что было потом — я совсем не помню. Позднее уже встает передо мной опять вид прекрасного дома, расположенного где-то в красивой и теплой стороне. Опять припоминаю я лицо уже другого мужчины, которого называл отцом и который был хозяином этого дома. И он, и все в доме говорили по-итальянски. Как-то я не видел отца в течение нескольких недель. Вдруг пришли в дом какие-то чужие люди со злыми, неприятными лицами. Они много шумели и перевернули весь дом вверх дном. Заметив меня, один из них спросил, кто я такой и что здесь делаю. Я ответил, что я Антонио и живу в доме. Услышав это, они злобно засмеялись, сорвали с меня мое прекрасное платье и вытолкали вон с угрозой, что если я посмею вернуться, то меня прибьют до полусмерти. С громким плачем убежал я от них. На улице встретился мне старик, в котором я сейчас же узнал одного из слуг приемного отца. «Пойдем, мой бедный Антонио, пойдем прочь, — сказал он, взяв меня за руку. — Для нас обоих дом этот закрыт навсегда. Теперь надо заботиться, где найти кусок хлеба».
Старик увел меня с собой. Оказалось, что он был вовсе не так беден, как можно было подумать, глядя на его платье. Едва мы пришли к нему, он развязал большой кошелек и высыпал из него много цехинов. С тех пор мы каждый день толклись вдвоем на Риальто, где старик занимался торговлей, продавая и покупая разные вещи. Кончив продажу, он обыкновенно выпрашивал какую-нибудь безделицу для своего мальчика, разумея меня. И всякий из покупщиков, на которых я смотрел смелыми, открытыми глазами, почти всегда бросал мне несколько монеток. Старик же тщательно прятал подаяние в мешок, уверяя, что копит это мне на новую, теплую одежду. Со мной старик, которого все, не знаю почему, называли Блаунас, обходился хорошо, и я не мог на него ни в чем пожаловаться. К несчастью, и эта жизнь продолжалась недолго. Ты помнишь, старуха, то страшное время, когда по всей Италии дрожали дворцы и башни, а колокола звонили сами, точно их раскачивали неведомые исполинские руки. Тому прошло не более семи лет. Мы со стариком счастливо успели выбежать из нашего дома, развалившегося за нами вслед. Все дела прекратились, ужас и страх простерлись над онемевшим Риальто. Но беда не пришла одна. Вслед за землетрясением появилось страшное чудовище, чье ядовитое дыхание отравило скоро всю страну. Все знали, что чума, завезенная из Леванта сначала в Сицилию, свирепствовала уже в Тоскане. Венеция была пока еще от нее свободна. Однажды дядя Блаунас торговал как всегда на Риальто и, продав что-то одному армянину, попросил по обыкновению безделку для сынишки. Армянин, высокий, статный мужчина с курчавой густой бородой (я вижу его как сейчас перед собой), ласково на меня посмотрел, поцеловал и положил мне в руку пару цехинов, которые я крепко сжал. Мы поплыли на площадь Марка. По дороге старик потребовал, чтобы я отдал ему мои цехины. Мне не хотелось их отдавать, и я стал уверять, что армянин подарил цехины мне, чтобы я непременно берег их сам. Старик рассердился. Во время этой ссоры я вдруг заметил, что лицо его внезапно пожелтело и он начал путаться в словак. Высадившись на площади, он пошел едва держась на ногах, точно пьяный, и вдруг упал как громом пораженный перед самыми окнами герцогского дворца. С криком бросился я к его телу. Сбежался народ, и скоро ужасный вопль: «Чума! Чума!» — раздался в воздухе. Каждый спешил укрыться где мог. Скоро я сам почувствовал головокружение и упал без чувств на мостовую.
Очнувшись, я увидел, что лежу в опрятной комнате на небольшом матраце, покрытый шерстяным одеялом. Около меня лежало на таких же кроватях под одеялами двадцать или тридцать посиневших, неподвижных фигур. Позже я узнал, что несколько монахов, добровольно помогавших во время чумы, найдя меня при выходе из церкви святого Марка и заметив во мне некоторые признаки жизни, перенесли меня в гондолу и отправили в Джудекку, где при церкви Сан Джорджо Маджоре они устроили госпиталь.
Как описать тебе, старуха, минуту моего пробуждения! Приступы болезни, казалось, изгладили из меня всю память о прошлом. Я жил минутной жизнью, понимая и сознавая одно лишь настоящее. Казалось, только одна искра жизни внезапно озарила мое умершее тело. Ты не можешь себе представить, до чего ужасной кажется нам жизнь, когда мы чувствуем себя как бы витающими в пустом пространстве, не видя ни малейшей точки опоры или привязанности. Монахи могли мне только объяснить, что нашли меня на площади возле трупа дяди Блаунаса, сочтя за его сына. Мало-помалу удалось мне собрать рассеянные мысли о моей прежней жизни, но из того, что я теперь тебе рассказал, ты видишь, что это не более как ничтожные, потерявшие всякую связь и значение обрывки утраченной навсегда картины. Ах, это чувство одиночества в мире, — оно не только лишает меня всякой радости, но, кажется, мешает наслаждаться даже тем, что жизнь послала мне теперь в самом деле хорошего.
— Тонино, милый Тонино! — промолвила старуха. — Удовольствуйся хорошим в настоящем!
— Молчи, старуха, — прервал ее Антонио, — есть у меня еще горе, которое отравляет мне жизнь и рано или поздно погубит меня вконец. Это стремление — а к чему, я сам не знаю! Какое-то тяжелое, безнадежное чувство, преследующее меня с той самой минуты, как я очнулся больным в госпитале. Когда, бывало, я, слабый, разбитый непосильным денным и нощным трудом, ложился на свою жесткую постель, благодатный сон смыкал мои глаза, и мне чудилось иногда небесное блаженство, сознание которого успокаивало и укрепляло мне душу. Но почему же теперь, когда я отдыхаю на мягких подушках, не зная ни труда, ни забот, и просыпаюсь без мыслей об ожидающей меня работе, почему теперь не хочет меня оставить это тяжелое, безотрадное чувство и продолжает мучить по-прежнему? Все мои старания проникнуть в эту тайну остаются тщетными. Я никак не могу себе уяснить, что такое чудесное потерял я в жизни, что даже его разрозненные отголоски наполняют душу блаженством при одном воспоминании о нем, хотя то же самое воспоминание мучает и терзает меня еще хуже при мысли о безнадежности возвратить утраченное! К чему же в таком случае эти следы исчезнувшего навеки?
Сказав это, Антонио замолчал и тяжело вздохнул. Старуха слушала его с напряженным вниманием, изображая на своем лице, как в зеркале, отголоски тяжелых чувств, которыми был наполнен его рассказ.
— Тонино! — начала она растроганным голосом, в котором слышались слезы. — Милый Тонино! Стоит ли унывать при мысли о хорошем, которое прошло без следа? Глупый, глупый ты ребенок! Слушай меня, хи-хи-хи! — И она засмеялась своим обычным деревянным смехом, заметавшись опять из стороны в сторону.
Несколько прохожих бросили ей милостыню.
— Антонио! Поддержи меня! — вдруг воскликнула она. — Сведи меня к морю!

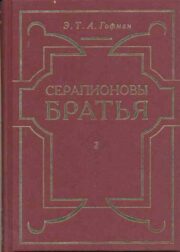
"Дож и догаресса" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дож и догаресса". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дож и догаресса" друзьям в соцсетях.