— Знаете ли вы, — говорила Эмми, — что все это для меня значит?
Септимус окинул одобрительным взглядом маленькую столовую.
— Это значит, что вы дома. Вы и мне должны подыскать точно такую же квартирку.
— Рядом с нашей?
— Если она будет чересчур близко, я, пожалуй, слишком часто буду сюда приходить.
— Вы полагаете, что это может быть слишком часто? Впрочем, вы правы.
Помолчав, Эмми пристально поглядела на него и неожиданно трагическим тоном спросила:
— Септимус, вы не очень меня ненавидите? Я для вас не слишком большая обуза?
— Боже мой, да нет же.
— Вы не жалеете, что встретились со мной?
— Милая моя девочка!
— Может быть, вы предпочли бы жить спокойно в Нунсмере и не знать хлопот со мной? Ну скажите правду — только по совести.
Септимус запустил руки в волосы. Он совершенно не знал, как нужно обращаться с женщинами.
— Я думал, что с этими разговорами у нас давно покончено. До вас я был совершенно бесполезным существом. Вы внесли интерес в мою жизнь: мальчик, его воспитание, его зубки, а потом его коклюш, корь, штанишки, книги и прочее — все это ведь страшно интересно.
Эмми, облокотясь локтем на стол и подбородком на руку, улыбалась ему, теперь уже довольно смело, своими глазами-незабудками.
— Вы, кажется, интересуетесь беби больше, чем мной?
Септимус покраснел и пробормотал что-то невнятное.
— Это две разные вещи. Беби для меня как бы изобретение.
— А я? — настаивала она.
Его снова осенило.
— Вы — вы открытие.
Эмми засмеялась и закурила папиросу.
— А мне все-таки кажется, что, в конечном счете, вы и меня немножко любите.
— У вас такие удивительные ногти.
Мадам Боливар подала кофе. Септимус, взяв чашку с подноса, уронил ее, и кофе пролилось на скатерть. Мадам Боливар всплеснула руками, призывая всех святых, а Эмми гордо улыбнулась как будто для того, чтобы пролить кофе, требовался особый талант.
Вскоре после того Септимус пошел в клуб, получив приказ вернуться к чаю, а Эмми стала готовиться к предстоящей встрече с Зорой. Он предлагал ей присутствовать при этой первой встрече и поддерживать ее, какую бы клевету она ни взвела на него в оправдание их решения жить врозь; но Эмми предпочла сама выдержать бой. В одиночку Септимус еще мог бы спасти положение неопределенностью своих ответов. В ее же присутствии он Бог знает что может выкинуть, так как Эмми решила взять всю вину на себя и приписать столь плачевный результат их брака собственным несовершенствам.
Теперь, когда приближалась минута встречи, Эмми нервничала. Она не унаследовала, как Зора, от своего отца бесстрашия и воинственности. Доля авантюризма, перешедшая и к ней, была ее несчастьем, так как вводила Эмми в искушение, которым ее кроткий и слабый, очень похожий на материнский, характер не в силах был противиться. Всю жизнь она боялась Зоры, подавляемая ее крупной фигурой, ее энергией и силой, смиряясь перед ее большей одаренностью. Теперь ей предстояло выдержать борьбу за честь свою и своего ребенка и в то же время за милое, странное существо, которое было ее мужем и так по-рыцарски, так деликатно спасло ее от гибели. Она вооружилась женским оружием и приготовилась встретить старшую сестру с ясным лицом, хотя сердце ее стучало, словно адская машинка, причиняя ей невыносимые муки.
В передней зазвенел колокольчик. Эмми вздрогнула, нагнулась над коляской и оправила на спящем мальчике хорошенькое вышитое одеяльце. Она слышала, как отворилась дверь и низкий грудной голос Зоры спросил, дома ли миссис Дикс. А затем и сама Зора, пышная, нарядная, цветущая, внесшая с собой запах фиалок и меха, вплыла в комнату и приняла младшую сестру в свои объятия. Эмми почувствовала себя маленькой и ничтожной.
— Какой у тебя чудесный вид, душа моя! Ты очень похорошела, честное слово. И пополнела. Я еще утром хотела бежать сюда и не сделала этого только потому, что знала: ты застанешь в квартире все вверх дном. Септимус страшно милый, но я не очень верю в его хозяйственные способности.
— Квартира была в полном порядке, — возразила Эмми, — и даже розы стояли в вазе.
— А воды в вазу он не забыл налить?
Зора смеялась; ей хотелось быть доброй и великодушной, показать Эмми, что она не полностью на стороне Септимуса, — вообще завести душевный разговор. Но Эмми тотчас же обиделась за Септимуса.
— Конечно, не забыл, — сказала она сухо.
Зора бросилась к коляске и по-женски принялась восхищаться беби. Какой очаровательный ребенок! Какой красавчик! Каждая мать могла бы гордиться таким сыном. Как же это милая Эмми не написала ей, что он такой удивительный, единственный в своем роде? Она так мало говорила о нем в своих письмах, что можно было подумать, будто это самое обыкновенное дитя.
— Ах ты, счастливица! — воскликнула она, снимая мех и перебрасывая его через спинку стула. — Как ты должна быть счастлива!
Зора невольно вздохнула. Ее слова должны были прозвучать кротким укором Эмми; природа же направила укор самой Зоре.
— Я и не жалуюсь — я счастлива.
— Что-то твоему голосу не хватает убедительности, душа моя. Ты так говоришь «счастлива», как будто хочешь сказать «несчастна». С чего же тебе быть несчастной?
— Я не несчастна. Я счастливее, чем того заслуживаю. Большего счастья я и не стою.
Зора обняла сестру за талию.
— Ничего, голубка. Мы постараемся сделать тебя счастливее.
Эмми на миг прильнула к сестре, потом тихонько высвободилась. И не ответила ей. Любые усилия Зоры и всех христианских благотворительниц не могли дать ей того, чего просило ее сердце. К тому же Зора с ее снисходительной улыбкой доброй dea ex machina[24], совершенно не соответствовала настроению младшей сестры, Эмми. Она взяла в руки мех.
— Какая прелесть! Это новый? Где ты его купила?
Разговор перешел на туалеты. Сестры не виделись год, а встретившись, заговорили о пустяках. Эмми слегка коснулась парижской жизни. Зора в общих чертах рассказала ей о своих путешествиях. А как доехали Эмми и ребенок? Очень она утомилась в дороге? — Нет, ничего: море было тихое, без качки, но все-таки мадам Боливар, мужественно поднявшаяся на борт парохода, впервые в жизни, жестоко страдала от морской болезни. А беби почти все время спал. Впрочем, он и когда не спит, очень тихий, замечательно спокойный мальчик, — характер у него будет чудесный.
— Весь в отца: тот и сам совсем дитя, а уж кротости — хоть отбавляй.
Слова эти, как нож, вонзились в сердце Эмми. Она быстро отвернулась, чтобы Зора не прочла в ее глазах тоску. Не предвидя такого оборота разговора, Эмми не думала, что это будет для нее так мучительно.
— Надеюсь, малыш получит в наследство кое-что и с нашей стороны, — продолжала Зора, — иначе ему придется туго. Главный недостаток бедного Септимуса тот, что у него нет характера.
Эмми мгновенно повернулась к ней.
— Никаких у Септимуса нет недостатков. Я не променяла бы его ни на кого на свете.
Зора изумленно подняла брови и возразила, как и следовало ожидать:
— Послушай, душа моя, почему же ты в таком случае не хочешь с ним жить?
Эмми пожала плечами и выглянула из окна. Напротив были такие же маленькие квартирки, и молодая женщина в окне напротив смотрела на Эмми. И это рассердило Эмми. Как смеет эта женщина ее разглядывать? Она отошла от окна и села на диван.
— Ты не находишь, Зора, что могла бы предоставить нам с Септимусом устраиваться так, как для нас удобнее. Уверяю тебя, мы вполне способны сами о себе заботиться. Мы большие друзья, и отношения у нас чудесные, но мы по разным соображениям решили жить на разных квартирах. Мне кажется, это касается только нас самих.
Старшая сестра именно такого ответа и ожидала, и он нисколько ее не смутил. Она пришла с твердой решимостью вразумить Эмми и не намерена была отступать от своего решения. Зора села рядом с сестрой и снисходительно улыбнулась.
— Милая моя детка, если бы вы были так называемые передовые люди и проповедовали всякие там сногсшибательные взгляды, — ну, я бы еще поняла; но ведь вы оба — люди обыкновенные и никаких у вас взглядов нет. У тебя их и не бывало, а если бы у Септимуса появились собственные взгляды, он бы так перепугался, что посадил бы их на цепь. Я уверена, что вы и повенчались без всяких идей, кроме одной — быть вместе. Так почему же вам не жить вместе?
— Септимусу нехорошо со мной. А я не могу быть другой. Чем видеть его несчастным, лучше уж жить врозь.
— Ну, в таком случае могу только сказать, что ты злая, бессердечная эгоистка. Твой долг — сделать его счастливым. Для этого так мало нужно. Тебе следовало бы устроить для него удобный и приятный семейный очаг и внушить ему сознание ответственности перед ребенком.
Снова ужаленная в самое сердце, Эмми почувствовала, что теряет самообладание. Впервые ей пришла в голову дикая мысль сказать Зоре всю правду, но она отогнала эту мысль как безумную и невозможную.
— Повторяю тебе, что тут ничего изменить нельзя.
— Но почему же? Не могу себе представить, чтобы ты была таким чудовищем. Ну скажи мне откровенно, милочка, в чем дело.
— Ни в чем.
— Уверена, что если бы я знала, в чем тут дело, то могла бы все уладить. Если это зависит от Септимуса, — добавила она в своем неведении, с самодовольной улыбкой госпожи, сознающей свою власть над рабом, — да, я могу заставить его делать все, что захочу!
Эмми не выдержала: всякое благоразумие ее покинуло.
— Если бы мы даже поссорились, — вскричала она, — неужели ты думаешь, что я позволила бы тебе вернуть его мне?
— Но почему же нет?
— Неужели ты все время была так слепа, что тебе это непонятно?
Эмми чувствовала, что говорит опасные слова, но самомнение сестры, ее самоуверенный и покровительственный тон нестерпимо ее раздражали. Зора тихонько засмеялась.
— Дорогая моя, неужели ты ревнуешь ко мне? Но ведь это же нелепо. Не думаешь же ты, что я когда-нибудь интересовалась Септимусом в определенном смысле?
— Ты столько же интересовалась им, как куцехвостой овчаркой, которая у нас жила, когда мы были детьми.
— Но ведь ты же не ревновала меня, милочка, к Бобику или Бобика ко мне, — с улыбкой, весьма логично возразила Зора. — Ну полно, детка, я так и знала, что подоплека тут самая нелепая. Слушай: я уступаю тебе все права на бедного Септимуса.
Эмми вскочила с места.
— Если ты будешь называть его «бедным Септимусом» и говорить о нем таким тоном, ты меня с ума сведешь. Это ты — злая, бессердечная эгоистка!
— Я?!
— Да, ты. Ты принимаешь любовь и обожание благороднейшего джентльмена, какого когда-либо видел свет, и третируешь его, и говоришь о нем, как будто это ничего не стоящий человек. Если бы ты была достойна его любви, я бы не ревновала; но ты недостойна. Ты так влюблена в себя, так поглощена созерцанием собственного величия, что даже не удостоилась заметить, что он любит тебя. И даже теперь, когда я сказала тебе это, ты смеешься, как будто это дерзость со стороны «бедного Септимуса», что он осмелился полюбить тебя. Ты с ума меня сведешь!
Зора в свою очередь поднялась. Она была разгневана. Быть снисходительной к ревности глупой девочки — это одно, выслушивать такие обвинения — совсем другое. Убежденная в своей невиновности, она сказала:
— Твои нападки на меня совершенно неосновательны, Эмми. Я ничего не сделала.
— Вот, вот! Именно. Ты ничего не сделала. Люди жертвуют ради тебя жизнью и состоянием, а ты ничего не делаешь; ты палец о палец не ударишь ради кого-то.
— Жизнью и состоянием? О чем ты говоришь?
— Говорю то, что думаю, — уже потеряв власть над собой, кричала Эмми. — Септимус делал все для тебя — разве только жизнью не пожертвовал, да и ту отдал бы с радостью, если бы это тебе понадобилось, а ты даже не дала себе труда разглядеть душу человека, способного на такие жертвы. А теперь, когда случилось такое, чего ты уже не можешь не заметить, ты являешься и величественно, как королева, предлагаешь в одну минуту все уладить. Думаешь, я прогнала его, потому что он милый, но несносный, как Бобик, и говоришь, точно о Бобике: «Бедненький! Посмотри, как он жалобно виляет хвостом. Ну разве не жестоко с твоей стороны не впустить его?» Ты именно так смотришь на Септимуса, и я не могу этого вынести, и не потерплю. Я люблю его и никогда не думала, что женщина может так любить мужчину. Я готова дать себя разорвать ради него на мелкие кусочки. А он недосягаем для меня — так же далек, как звезды на небе. Что ты в этом понимаешь! Я каждую ночь думаю о том, чтобы он простил меня, чтобы он снова вернулся ко мне. Но чудес на свете не бывает. И он никогда ко мне не придет. И не может прийти. В то время как ты покровительственно гладишь его по головке и разыгрываешь из себя благодетельницу — точно так же ты поступаешь и с другим человеком, который не далее как сегодня утром пожертвовал ради тебя целым состоянием именно потому, что тебя любит — в то время как ты возносишься над ним и презираешь его, — да, да, не отрекайся, я знаю, что ты в душе немного презираешь Септимуса, считаешь его добрым простачком, полуюродивым, который изобретает какие-то нелепости, — он ради того, чтобы избавить тебя от горя, стыда и боли, сделал такое, чего не сделал бы никто другой — тебя, а не меня — потому что он любил тебя. А теперь я люблю его. Я отдала бы все на свете за то, чтобы случилось чудо. Но оно не может случиться. Понимаешь ты это? Не может!

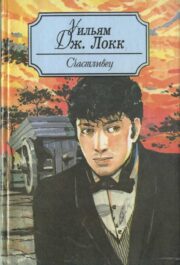
"Друг человечества" отзывы
Отзывы читателей о книге "Друг человечества". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Друг человечества" друзьям в соцсетях.