Логика всего этого для меня непостижима, как, видимо, и для всех, чье рукопожатие есть обязательство и кто честно совершает сделки. Или она не годится в королевы – как, безусловно, думали шотландцы и с чем согласились мы. Или она теперь годится, как годилась, когда мы провели три расследования ее поведения. Справедливость всего этого для меня тоже непостижима. Есть герцог Норфолк, который ждет в Тауэре суда за измену, есть граф Нотумберленд, казненный за участие в северном восстании, есть граф Уэстморленд, изгнанный навеки, он больше не увидит ни жену, ни свои земли, и все за то, что пытался восстановить на троне эту королеву, которую теперь и так восстановят. Сотни умерли по обвинению в измене в январе. Но теперь уже февраль, и та же самая измена нынче стала политикой.
Она проклята, клянусь. Ни один мужчина не выгадал от брака с ней, ни один ее защитник не пережил сомнительной чести носить ее цвета, ни одна страна не стала лучше от того, что она была ее королевой. Она приносит несчастье в каждый дом, куда входит; и я, например, могу это подтвердить. Почему такую женщину прощают? Почему она всегда выходит невредимой? Почему такой Иезавели[27] так чертовски везет?
Я всю жизнь работала, чтобы заработать свое место в мире. У меня есть друзья, которые меня любят, и знакомые, которые мне доверяют. Я живу согласно кодексу, который усвоила еще молодой: мое слово – мое обязательство, вера моя близка моему сердцу, моей королеве – моя верность, мой дом все для меня, мои дети – мое будущее, и во всем этом мне можно верить. В делах я веду себя достойно, но хватко. Если вижу преимущество, то пользуюсь им, но я никогда не краду и никогда не обманываю. Я возьму деньги у дурака, но не у сироты. Это не благородная жизнь, но так я живу. Как мне уважать женщину, которая лжет, совершает подлоги, затевает заговоры, соблазняет и использует людей? Как видеть в ней что-нибудь, кроме мерзости?
О, я не могу противостоять ее чарам, я так же глупа, как все те мужчины, которых она обещает пригласить в Холируд или в Париж; но даже когда она меня очаровывает, я знаю, что она дурная женщина. Она насквозь дурная женщина.
– Моя кузина отнеслась ко мне с величайшей несправедливостью и жестокостью, – замечает она, когда одна из моих дам (моих собственных дам!) по глупости говорит, что будет скучать по ней, когда та вернется в Шотландию. – С величайшей жестокостью, но она наконец видит то, что весь мир увидел два года назад: королеву нельзя сместить. Я должна быть восстановлена. Она была глупа и жестока, но теперь она наконец прозрела.
– Я бы сказала, что она была терпелива сверх меры, – раздраженно бормочу я над своей вышивкой.
Королева Шотландии поднимает темные брови, услышав несогласие.
– Вы хотите сказать, что полагаете, что она была со мной терпелива? – осведомляется она.
– Ее двор разделился, ее собственный кузен был соблазнен и утратил верность, ее лорды злоумышляли против нее, она пережила величайшее восстание за время своего правления, а ее парламент призывает ее казнить всех, вовлеченных в заговор, включая вас.
Я бросаю желчный взгляд на своих дам, верность которых под подозрением с тех самых пор, как эта блестящая молодая королева явилась среди нас со своими романтическими историями о Франции, о своей так называемой трагической жизни.
– Королева могла бы последовать предложению своих советников и отправить палача ко всем вашим друзьям. Но она этого не сделала.
– На каждом перекрестке стоит виселица, – замечает королева Мария. – Немногие на севере согласятся с вами, что милость Елизаветы проливается ласковым дождем с небес.
– На конце каждой веревки болтается мятежник, – упрямо говорю я. – И королева могла бы повесить на каждой еще дюжину.
– Да, она потеряла всю поддержку, – милым голосом соглашается Мария. – Нет на севере ни города, ни деревни, что встали бы за нее. Они все хотели вернуть старую веру, они хотели, чтобы меня освободили. Даже вам пришлось бежать от армии севера, Бесс. Tiens![28] Как вы управлялись со своими фургонами, как тряслись за свое имущество! Даже вы знали, что на севере нет ни одного города или деревни, верных Елизавете. Вам приходилось нахлестывать лошадей и ехать так быстро, как только можно, а с повозки падали серебряные кубки.
Мои дамы льстиво смеются, представляя, как я поспешаю со своими папистскими подсвечниками. Я склоняю голову над вышивкой и стискиваю зубы.
– Я смотрела тогда на вас, – говорит Мария тише, пододвигая свой стул поближе, чтобы мы могли поговорить наедине. – Вы боялись в те дни, по дороге в Ковентри.
– В этом нет вины, – защищаюсь я. – Почти все боялись.
– Но вы боялись не за свою жизнь.
Я качаю головой.
– Я не из трусливых.
– Нет, вы не просто не трусиха. Вы отважны. Вы не боялись ни за свою жизнь, ни за безопасность мужа. Вы и битвы не боялись. Но вас что-то ужасало. Что?
– Утрата дома, – признаюсь я.
Она не верит.
– Что? Вашего дома? За вами по пятам шла армия, а вы думали о своем доме?
Я киваю.
– Всегда.
– О доме? – повторяет она. – Когда нашим жизням грозила опасность?
Я смущенно смеюсь.
– Ваше Величество, вы не поймете. Вы были королевой стольких дворцов. Вы не поймете, каково мне заработать небольшое состояние и пытаться его удержать.
– Вы боитесь за свой дом больше, чем за мужа?
– Я родилась у молодой вдовы, – говорю я.
Я сомневаюсь, что она поймет, даже если написать ей все большими буквами.
– По смерти моего отца ей не осталось ничего. То есть совсем ничего. Меня отослали в семью Брэндонов, чтобы сделать компаньонкой и экономкой в их доме. Тогда я поняла, что у женщины, чтобы чувствовать себя в безопасности, должны быть муж и дом.
– Но вам же ничего не грозило?
– Мне угрожала бедность, – поясняю я. – Бедная женщина – последнее создание на земле. Женщина сама ничем не владеет, она не может найти дом своим детям, она не может заработать денег и поставить на стол еду, она зависит от доброты своей семьи, без их щедрости она может умереть от голода. Она может увидеть, как умрут ее дети, если ей не хватит денег, чтобы заплатить врачу, она может голодать, ведь у нее нет ни профессии, ни гильдии, ни умений. Женщинам запрещено учиться и работать. Не бывает женщин кузнецов или писарей. Все, что может женщина без образования, без навыков, – это продавать себя. Я решила, чего бы мне это ни стоило, я как-нибудь заработаю собственность и буду за нее держаться.
– Это ваше королевство, – вдруг говорит она. – Ваш дом – это ваше маленькое королевство.
– Именно, – отвечаю я. – И, если я потеряю свой дом, я буду выброшена в мир без всякой защиты.
– Как королева, – кивает она. – У королевы должно быть королевство, без него она никто.
– Да, – отвечаю я.
– А ваш страх потерять дом означает, что вы относитесь к своим мужьям как к тем, кто вас обеспечивает, не больше? – с интересом спрашивает она.
– Я любила своих мужей, потому что они были ко мне добры и оставили мне свои состояния, – признаю я. – И детей я люблю, потому что они – мои драгоценные дети и мои наследники. Они будут жить, когда меня не станет. Они унаследуют мое состояние, им отойдут мои дома и богатство, дай Бог, чтобы они их преумножили и получили титулы и почести.
– Кто-то скажет, что у вас не нежное сердце, – замечает она. – Вы женщина с сердцем мужчины.
– Я – не та женщина, которой по нраву сомнительность женской жизни, – отвечаю я веско. – Не та женщина, которая в восторге от своей зависимости. Я скорее сама заработаю себе состояние, чем стану подлизываться к богатому мужчине и ждать, что он станет заботиться о моей безопасности.
Она собирается ответить, и тут за спиной у меня открывается дверь, и я понимаю, что это мой муж граф. Я понимаю это, еще не успев обернуться, по тому, как озаряется при виде него ее лицо. Она неразборчива, как шлюха. Любой мужчина или мальчик, от моего восьмилетнего пажа Бабингтона до моего сорокадвухлетнего мужа – со всеми она одинаково приятна. Она даже с Гастингсом весело флиртовала в дни перед его отъездом.
Рассказать не могу, как меня злит выражение особой близости в ее улыбке и то, как она протягивает руку, и как меня бесит то, как он склоняется над ее рукой, целует ей пальцы и на мгновение задерживает их в своей ладони. Ни в его поведении, ни в ее нет ничего неподобающего. Ее жест – королевский, он ведет себя как сдержанный придворный. Видит бог, между королевой Елизаветой и любым новичком в ее приемной флирта куда больше, при дворе вообще больше непристойности. Елизавета может быть открыто похотливой, а ее постоянная жажда лести давно вошла в поговорку у придворных. Напротив, эта королева, хотя и куда более желанна, никогда не отступает от самых очаровательных манер.
Но, наверное, я так устала видеть ее в своих комнатах, видеть, как она сидит в моем лучшем кресле, под собственным королевским балдахином, и муж мой склоняется перед ней, словно она – ангел, сошедший нас озарить, а не самая ненадежная женщина.
– Из Лондона прибыл гонец, – говорит он. – У него письма для вас. Я подумал, вы захотите их сразу просмотреть.
– Так и есть.
Она поднимается со своего кресла, и всем нам тоже приходится вскочить.
– Я прочту их в своей комнате.
Она слегка мне улыбается.
– Увидимся за обедом, леди Бесс, – отпускает она меня.
Потом поворачивается к моему мужу.
– Не пойдете со мной, посмотреть, что пишут? – приглашает она его. – Мне бы пригодился ваш совет.
Я сжимаю губы и проглатываю слова, которые даже думать не должна бы. Например: чем он может вам помочь, если не думает ни о чем и совсем ничего не планирует на будущее? Как может он выбрать путь, если не знает, чего он стоит, во что ему это обойдется и может ли он себе это позволить? Хоть один из вас понимает, что он с каждым днем сползает все глубже в долги? Что за помощи вы ищете у дурака? Если вы сама не дура?
Мой муж граф, которого я теперь про себя называю «мой муж дурак», подает ей руку, и они выходят вместе, сблизив головы. Он забыл и поздороваться со мной, и попрощаться. Я чувствую, как смотрят на меня, сидящую на табурете, мои дамы, и щелкаю пальцами.
– Продолжайте, – говорю я. – Простыни сами не залатаются, знаете ли.
1570 год, февраль, замок Татбери: Мария
Ботвелл, ты будешь смеяться, когда прочтешь это, как я смеюсь, когда пишу. Мой сводный брат Морей мертв, и они хотят, чтобы я снова была их королевой. Я вернусь на свой трон этим летом и на следующий день освобожу тебя. Я всегда была везучей, а тюрьму, в которой тебя можно удержать, еще не построили.
Мари
1570 год, апрель, замок Татбери: Джордж
Помимо себя, я стал советником королевы Марии. Пришлось: это долг чести. Ее нельзя лишать человека, с которым она может поговорить. У нее нет никого, кому она могла бы верить. Ее нареченный, герцог Норфолк, в тюрьме и может писать ей только тайно, ее посол, епископ Джон Лесли, молчит с тех пор, как начались аресты, и все это время Сесил давит на нее, чтобы она согласилась на условия возвращения в Шотландию, которые мне представляются безжалостными.
– Вы слишком спешите, – журю я ее. – Слишком рветесь. На эти условия нельзя соглашаться.
Ей хотят навязать старый Эдинбургский договор Сесила, который делает Шотландию нацией подданных, подчиненной Англии, неспособной заключать свои собственные союзы, вообще лишенной внешней политики. Хотят, чтобы она согласилась сделать Шотландию протестантской страной, где сама она может исповедовать свою веру только частным порядком, едва ли не скрываясь. Они даже хотят, чтобы она отказалась от права на английский трон, требуют, чтобы она отринула это наследство. И она, как истинная королева, готова принять это унижение, это мученичество, чтобы отвоевать себе шотландский трон и вернуться к своему сыну.
– Это невозможные требования, порочные требования, – говорю я ей. – Ваша собственная мать отвергла их на смертном одре. Сесил хотел навязать их ей, ему должно быть стыдно навязывать их вам.
– Я должна согласиться, – говорит она. – Я понимаю, что они тягостны. Но я соглашусь.
– Вы не должны.
– Я соглашусь, потому что когда я окажусь там…
Она пожимает плечами, жест настолько французский, что если бы я увидел это движение в толпе женщин, я сразу бы ее узнал.
– Как только я вернусь на свой трон, я смогу делать, что пожелаю.
– Вы шутите. Вы ведь не можете подписать соглашение, а потом его нарушить?
Я искренне поражен.
– Нет, non, jamais[29], нет. Конечно, нет. Но кто бы меня стал винить, если бы я так сделала? Вы сами говорите, что эти требования порочны и несправедливы.
– Если бы они думали, что вы отступите от своего слова, они бы вообще не стали заключать с вами соглашение, – указываю я. – Они бы знали, что вам нельзя верить. И вы сделали бы свое слово, слово королевы, совершенно ничтожным.

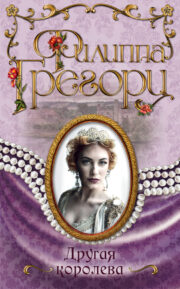
"Другая королева" отзывы
Отзывы читателей о книге "Другая королева". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Другая королева" друзьям в соцсетях.