— Жизнь, которую ты проживаешь сейчас, — всего лишь пузырь в космическом потоке, сформированный кармой других жизней. Тот, кто является твоим мужем в этой жизни, возможно, был твоим врагом в прошлой жизни, и тот, кого ты ненавидишь, мог быть твоим возлюбленным. Зачем тогда плакать о ком-либо из них?
Его слова не удивляли меня. Мудрецы, которые посещали нас в изгнании, говорили то же самое в своих попытках заставить меня смириться с судьбой. Я верила им, но они не могли меня убедить. Этот мир вокруг меня с его красотами и ужасами слишком крепко держал меня. Я хотела получить в нем свое место по праву. Возможно, у меня были другие жизни, но я хотела получить удовлетворение от мести в этой жизни.
— Эта война пройдет так, как должна пройти — так, как я уже написал в своей книге, — продолжил Вьяса. — Почему я должен скорбеть об этом больше, чем если бы я смотрел спектакль?
Увидев упрямство в моих глазах, он сделал паузу.
— Но я пришел сюда не для того, чтобы философствовать. Я хочу предложить тебе дар — тот же, что я предложил слепому царю: особое зрение, которое даст тебе возможность увидеть самые важные части битвы издалека.
Я неровно вдохнула, пытаясь осознать масштабы того, что он предлагал. Я, женщина, увижу то, что ни одна женщина — и немногие мужчины — когда-либо наблюдали!
— Принял ли дар Дхритараштра?
— Ему не хватило мужества видеть, как его сыновья пожинают плоды своих действий — действий, поощряемых его любовью, которой они не достойны. Вместо этого он попросил, чтобы я отдал этот дар Санджаю, его вознице и наперснику. Санджай будет рассказывать ему все, что происходит. К концу рассказа он, возможно, будет сожалеть об этом, ибо Санджай — не тот, кто будет смягчать свои слова. Но ты — достаточно ли ты смелая, чтобы увидеть величайший спектакль наших времен? Достаточно ли стойкая, чтобы рассказать остальным, что действительно произошло в Курукшетре? Потому что в конечном счете только свидетель — а не актеры — знает истину.
Я колебалась. Неожиданно мне стало страшно. Впервые моя эйфория отступила, и я увидела другое лицо войны: насилие и боль. Наблюдая, я буду страдать не меньше, чем те, кто сам переживает эти события. И буду ли я в меньшей степени чувствовать свою вину, чем Дхритараштра? Не была ли я так же в ответе за войну, как и он? Возможно, было бы лучше ждать, пока курьеры не принесут новость, одну фразу, в которой будет заключаться жизнь или смерть.
Я глубоко вдохнула. Я не знала, что сказать, пока слова сами не сорвались с моих губ:
— Я принимаю твой дар. Я увижу эту войну и буду жить ради того, чтобы рассказать о ней. Это справедливо, ибо именно я стала ее причиной.
— Не очень-то доверяй себе, внучатая невестка! — Улыбка Вьясы была иронична, как никогда. Только потом, оглядываясь назад, я могла прочесть в ней сочувствие. — Семена этой войны были посеяны задолго до твоего рождения, хотя, конечно, ты способствовала тому, чтобы она началась раньше. Но я доволен твоим выбором.
Он протянул руку, чтобы прикоснуться к моему лбу, к точке, где должен находиться третий глаз. Я мысленно готовила себя — не знаю, к чему. Возможно, к взрыву божественной музыки, к удару молнии. Но его прикосновение было настолько обычным, что разочаровало меня, оно было не более волнующим, чем прикосновение птичьего крыла. Я огляделась вокруг. Все было таким же, как и прежде. В сумерках я даже не видела своих мужей.
Не позволил ли себе Вьяса шутку в мой адрес?
— Мучают подозрения, не так ли? Не беспокойся. Начиная с завтрашнего дня, в течение восемнадцати дней — потому что именно столько продлится это побоище — ты увидишь все самые важные моменты этой войны.
Он отступил в тень. Тьма поглотила всё, кроме постепенно исчезающей белизны его бороды.
— Подожди! — закричала я. — Ты говоришь, ты уже написал историю войны. Скажи мне, кто победит?
— Разве годится спрашивать у драматурга, какова будет развязка его спектакля? Но в данном случае я даже не драматург — а всего лишь летописец. С моей стороны было бы дерзостью раскрыть финал до предписанного момента, о внучка, которая совсем не научилась терпению с того момента, когда я впервые увидел тебя!
С этими словами он ушел.
— Где ты, Панчаали? — я услышала, как Юдхиштхира зовет меня. — Мы сейчас должны спуститься и поужинать. Нам нужно подготовиться к завтрашнему дню.
Я позволила ему взять свою руку и рассеянно отвечала на его ухаживания. Мы шли в лагерь, освещая себе путь факелом. Слуги построили простой шалаш с крышей из пальмовых листьев, который должен был послужить укрытием для нас, женщин, пока не кончится война. Они пытались сделать его уютным с помощью шелковых драпировок и сандаловых благовоний, и даже привели музыканта, который играл на однострунной лютне и нежно пел. И все же беспокойство витало в воздухе, как перед грозой, а под коврами каменистая земля была слишком твердой, отчего Кунти скривила гримасу, сев на пол. Что касается меня, мне было все равно. Когда я потеряла свой дворец, любое место — будь то особняк или лачуга — не радовало меня.
Когда мы сели, чтобы поесть, вошли мои сыновья в сопровождении Дхри и Сикханди. Они приветствовали меня если не с нежностью, то с учтивостью, и я знала, что должна быть благодарна и за это. Мне хотелось много им сказать, но сейчас я не могла подобрать слова. Дхри выглядел опустошенным. Сикханди, которого я давно не видела, отрастил длинные волосы. Это придавало лицу двойственность — оно казалось мужским и женским одновременно. Мои сыновья были одеты в доспехи, хотя пока в этом, конечно, не было особой необходимости. Но для них это было частью этой новой волнующей игры. Я смотрела, как зачарованная, на игру света факела на их бронзовой коже. Я не помню, что я говорила, благословляя их, когда они прикасались к моим стопам. Я знала, что в тот день я должна была так же беспокоиться, как любая другая мать, я почему-то не чувствовала страха.
Дар Вьясы уже подействовал на меня. Я словно упала в реку, и меня уносило течением к водопаду, прочь от людей, о которых я беспокоилась до настоящего момента. Я слышала далекий шум воды, или это просто были голоса смятения? Скоро течение стало сильнее, перенося меня за край. Я смотрела на лица вокруг себя. Они были суровы, бледны и будто бы высечены из камня. Никто не замечал моего оцепенения. Каждый был замкнут в своем внутреннем мире, где он воображал себя главным героем славной пьесы.
Только Кришна, который зашел в палатку последним, посмотрел на меня с недоумением. В конце вечера, когда он попрощался, он прошептал мне на ухо еще одно из своих загадочных откровений: о том, что тело подобно старой, изношенной одежде и что нет никаких причин для скорби.
Ночью я вышла из палатки, чтобы полюбоваться огромной луной цвета меди, которая висела низко в небе. Я недостаточно разбиралась в астрологии, чтобы определить, хороший это знак или плохой. В пустынной местности, где когда-то протекала река Сарасвати, я заметила неожиданное движение. Сначала я подумала, что это дикий зверь, но потом разглядела женщину, собиравшую кактусы, которые иногда едят простолюдины, когда не хватает еды. Освещенная луной, она была худощавой, а ее сари было все залатанным. Я предположила, что это служанка из лагеря, а может быть, жена одного из пеших солдат. Я поманила ее, желая дать ей монетку.
Женщина немного приблизилась, прищурив глаза, чтобы лучше разглядеть меня. Потом неожиданно обернулась и побежала, сделав резкое движение руками, которое меня ошеломило — это был жест, который использовали, чтобы уберечься от сглаза.
У меня внутри все похолодело. Я знала, что она узнала меня по непричесанным, взлохмаченным волосам. Значит, именно так ко мне относились люди? Все это время я считала себя несправедливо обиженной. Я верила, что люди моей страны — особенно женщины — сочувствовали мне из-за оскорблений, которые я потерпела от рук Дурьодханы. Я думала, что они восхищались мной за те невзгоды, которые я решила разделить с моими мужьями в ссылке. Когда я смотрела на огромное войско Пандавов на поле битвы, я предполагала, что солдаты решили присоединиться к моим мужьям, потому что они поддерживали наше дело. Сейчас я поняла, что для многих из них это была всего лишь работа, альтернатива нищете и голоду. Или, может быть, их против воли мобилизовали их начальники. Неудивительно, что для их жен я была предвестником несчастья, женщиной, которая вырвала их мужей из семей, ведьмой, которая могла одним взмахом руки превратить их во вдов.
Как мало мы знаем о нашей репутации, подумала я с горькой улыбкой.
В ту ночь мой сон был беспокойным, но когда я просыпалась или дремала, мне приснился последний сон перед войной. В этом сне со мной разговаривал Кришна. Когда он открыл рот, чтобы произнести свои слова, я увидела там всю землю и небеса с вращающимися планетами и огненными метеорами. Он еще раз сказал мне то, что говорил мне вечером, и только на этот раз я поняла. Точно так же, как мы сбрасываем изношенную одежду и надеваем новую, когда наступает время, душа сбрасывает тело и находит новое, чтобы отработать свою карму. Потому мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых.
Я глубоко задумалась и поняла, что он прав. Действительно, побеждали мы или терпели поражение, жили или умирали, не было никаких причин для скорби. Сердцевина моего Я сияла, как новый меч. Печаль могла причинить ему не больше вреда, чем ржавчина — чистой стали. Меня наполняла жизнерадостность, чувство, что великая драма жизни разворачивалась так, как и должна была. Разве это не удача для меня — принимать в ней участие?
Но утром, когда я проснулась, моим сердцем снова овладело уныние. Я повторяла себе слова Кришны, но они застревали у меня в горле, как камни. Я не могла понять, почему во сне они сделали меня такой счастливой. Через некоторое время эти слова начали таять, словно облака в ветреный день, и я даже не могла их вспомнить. Однако я отчетливо вспомнила выражение лица женщины, которую я встретила прошлой ночью. Почему некоторые неприятные впечатления так глубоко врезаются в нашу память? Ужасное сомнение пришло ко мне, когда я снова увидела, как она воздела руки, защищаясь от меня: не обрекла ли я своих мужей — и, возможно, все царство — на ужасное бедствие ради удовлетворения своих жалких капризов?
33
Зрение
Утро войны застало меня усталой и больной. Голова моя была словно набита колючими джутовыми волокнами. Всю ночь, в темноте моей палатки, мне мерещились, сливаясь в одно, лица моих мужей, сыновей, Дхри и, в самом конце — мужчины с усталыми, тревожными глазами. Когда он появился, я больше не могла оставаться в постели. Хотя солнце едва взошло, война еще не началась, я решила взойти на холм. Прошлой ночью я никому не рассказала о нашем разговоре с Вьясой и его даре. (Честно говоря, я сама вполне не верила в это.) Сейчас я просто наказала своей служанке передать Субхадре, куда я пошла, чтобы та не беспокоилась. Я добавила, что никто не должен меня тревожить, потому что я буду молиться. Отчасти это было правдой. Наблюдая за ходом войны, я собиралась просить богов защитить людей, которых я любила. Можно ли считать предательством то, что один из тех, за кого я хотела молиться, сражался на вражеской стороне?
Поднимаясь на холм, я слышала, как трубы призывают воинов готовиться к бою. Лошади громко ржали, словно чувствуя, что вот-вот должно начаться что-то важное. Признаюсь, мое сердце тоже усиленно забилось в предвкушении. Если Вьяса говорил правду, я должна была быть свидетелем — единственным свидетелем на нашей стороне, единственной женщиной, которой когда-либо доводилось такое увидеть — великого спектакля. Как бы ни кончилась война, моя роль стоила того, чтобы ею гордиться.
Но, достигнув вершины холма, я невольно замедлила шаги. Ноги отказывались меня держать. Огромная тяжесть навалилась на мои веки. Я села — не знаю, на камень или на голую землю. Я ничего не видела и не слышала, не чувствовала тепла солнечных лучей. Как только я вынырнула из этого состояния, которое я всегда считала сознанием, я поняла, что роль, которую я играла, не имеет никакого отношения к гордости Панчаали. Сила, которая в меня входила — я чувствовала, как ее мощь бьется в каждой клеточке моего тела, — будет использовать меня в своих целях. Уже было слишком поздно, и мне стало страшно.
До самого конца войны я поднималась на холм каждое утро и входила в это состояние — или, точнее говоря, транс. Весь день я не испытывала ни голода, ни жажды, хотя к вечеру я чувствовала такую усталость, что едва могла спуститься с холма. За эти дни мои волосы побелели, а моя плоть стала будто таять. Когда Субхадра поняла, что со мной что-то происходит (хоть и не понимала, что именно), она послала со мной служанку, чтобы та давала мне воду — ибо это было все, что я могла принять — и помогала мне благополучно спускаться каждый вечер в лагерь. Позднее девушка мне рассказала, что я часто плакала или смеялась, пугая ее. Иногда я нараспев говорила на незнакомом языке. Я не помнила этого. Но на всю оставшуюся жизнь я не забуду образы, что мне являлись — те, которые я попытаюсь описать позже, и те, что были так ужасны, что я оставила их в своей душе навсегда.

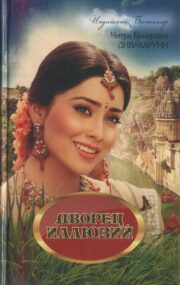
"Дворец иллюзий" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дворец иллюзий". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дворец иллюзий" друзьям в соцсетях.