— Лорд Олдридж первый раз сделал предложение, когда тебе было двенадцать. Ты была высокая для своего возраста, длинная, тощая, похожая на мальчишку, но он хотел тебя. Он годами был одержим тобой, глупец.
У Антигоны было такое чувство, будто ей снова дали пощечину. В ушах звенело от слов, внутри все горело от позора. Но ум по-прежнему непреклонно стоял на своем. Это произошло годы назад. До папиной смерти. В голове громоздились ужасные мысли.
— Ты знала о слухах и все-таки обручила меня с ним?
— Как ты думаешь, что случилось бы, если бы я отдала ему тебя в двенадцать? Или даже в семнадцать, когда он снова сделал предложение? И он предлагал нам деньги, в твои двенадцать больше, чем в семнадцать, но достаточно, чтобы довольно долго жить в комфорте, не испытывая недостатка в мясе, угле и одежде. Но в твои двенадцать он использовал бы тебя и бросил, скандал погубил бы нас всех.
— А стыд явно не погубит.
Жгучие слова матери разъедали, как щелок, выжигая в душе горькую пустоту там, где раньше была мама. Губили все. Все воспоминания о последних годах.
— Папа знал об этом?
Мать пренебрежительно махнула рукой.
— Твой драгоценный папа не трудился думать о деньгах, еде, угле. Но кто-то должен был смотреть вперед и думать о будущем, особенно после его смерти, и это была я.
Антигона была так потрясена тем, что рассказывала ей мать, что ее просто трясло. Она не могла остановить дрожь, которая зародилась глубоко внутри и сотрясала ее так, что Антигоне пришлось обхватить себя руками. Но Антигона знала, что ей надо понять все до конца. Каждую мерзкую деталь этой мерзкой правды.
— Тебе должно льстить, что он не отказался. Что ждал столько лет. Твой отец не знал об этом ни в твои двенадцать, ни в семнадцать, когда лорд Олдридж снова сделал тебе предложение. Но когда твой отец умер, его милость вернулся к своему предложению. И мы не могли позволить себе упустить это. Деньги и возможность…
— Я не желаю этого слушать. — Антигона отвернулась. — Я не хочу слушать, как ты пытаешься оправдать то, что пожертвовала мной ради своей никчемной жадности.
— Никчемной? Неблагодарная девчонка! Ты дальше своего эгоистичного, зарытого в книгах носа ничего не видишь. — Мать теперь, не стыдясь, кричала в полный голос, гордая своими достижениями. — Я оберегала тебя. Я была умнее. Сначала я сказала, что ты еще слишком мала, хотя знала, что именно влечет его в тебе. Юность, угловатость, отсутствие форм.
Антигона жалела, что не может заткнуть уши, замкнуть ум от этого бесконечного перечня ужасов.
— Это не защита. Это… — У нее не было слов, чтобы выразить клубящееся в ней отвращение, потерю, горе, предательство. — Это чудовищно.
— Ты бы предпочла, чтобы я отдала ему тебя в двенадцать? — отмахнулась мать.
— Нет. — У Антигоны не было другого ответа. Никакая логика не пробила бы стену самообмана, которую возвела мать, защищаясь от чувства вины. — Нет.
Но ее мать не только выстроила стену, делая это, она утратила всякое чувство приличия. Вместо того, чтобы нести груз вины, она торжествовала триумф.
— В последние месяцы это была трудная игра. Мне пришлось использовать тебя, пока ты не переросла свою привлекательность и полезность для него. Скоро ты будешь слишком стара на его вкус, и он может обратить внимание на какую-нибудь другую девочку. Так что я сказала «да», потому что знала, что придется переждать траур. Но это даст нам время. Тебе только и нужно было делать, что сидеть тихо и не нарушать мой план. Но ты не могла справиться даже с этим. — К ней вернулось презрение. — Я трудилась, планировала, объясняла тебе все снова и снова, а ты все-таки сумела все погубить. Почему? Ради никчемного второго сына, ради коммандера Джеллико, который ничего тебе не предложил. Почему ты не можешь быть счастлива тем, что у тебя есть?
Это было слишком зло и слишком несправедливо.
— А почему ты не можешь? — Антигону не волновало, что она почти кричит.
— Не в этом суть. — Мать становилась такой же невосприимчивой к осуждению, какой Антигона когда-то считала себя.
— Именно в этом. Как ты можешь не желать мне такого же счастья, как Касси? Как ты можешь не желать мне этого? У тебя был наш папа. Он любил тебя! Он любил нас! С ним ты смеялась и улыбалась. Этого достаточно. Более чем достаточно. Это — все. — Горло жгло огнем. Но она не заплачет. Она не может. Боль и отвращение высушили влагу, а то что осталось, было кипящим морем гнева. — Это ты не была счастлива тем, что у тебя было. Это ты поставила все под угрозу. Это ты заключила эту омерзительную, дьявольскую сделку.
— Как ты смеешь так со мной разговаривать! — кричала мать. — Ты не единственная персона на свете. Я должна жить, как должна жить и твоя сестра. Мы все должны иметь пищу, кров и одежду, если собираемся выжить.
— Мы жили, даже без папы. У тебя не было причин для отчаяния, паники и того, что ты сделала. Но тебя не убедить.
— У нас ничего не было на будущее. Что стало бы с нами, если бы мы тихо сидели в Уилдгейте? Кто бы приехал в Редхилл? За кого вышла бы Кассандра? За мясника? За какого-нибудь нищего викария? Никого нет. И нет шансов поехать куда-нибудь еще. Твой отец любил тихую замкнутую жизнь, но этого мало. Мы с таким же успехом могли замуроваться вместе с ним в могиле, когда он умер. Для нас не было будущего.
Теперь будущего нет для Антигоны.
— Но так использовать меня! Не поставив меня в известность, без моего согласия. Сделать из меня приманку для такого человека! — Это чудо, что она до сих пор сидит спокойно. Чудо, что она не испытывает желания ударить мать, вложить в пощечину всю силу своего гнева. Но Антигона не могла этого сделать. Если она это сделает, она будет такой же скверной, как ее мать, такой же мерзкой, как сам Олдридж.
Мать отмахнулась от собственной вины.
— Олдридж все равно нашел бы способ заполучить тебя, грязный или честный. Он — мужчина, и будет делать то, что пожелает. Тебе уже следовало бы достаточно узнать жизнь, чтобы понимать это.
Теперь Антигона это знала. Олдридж достаточно сказал ей прошлой ночью.
Но это знание глубоко ранило, душа кровоточила от острой правды и покрытой ржавчиной лжи.
— Ты — моя мать. Тебе полагается любить и оберегать меня.
Ее мать видела свой долг совсем, совсем иначе.
— Мне полагается подготовить тебя к жизни в большом мире. И я это сделала. Почему ты не видишь выгоды?
Потому что выгода и то, чего эта выгода стоила, не равны, их невозможно уравновесить. Потому что зло слишком велико.
— Потому что это неправильно, мама. При всех твоих предполагаемых выгодах, если я соглашусь выйти за него, зная то, что я про него знаю, я стану его сообщницей. Я буду так же повинна в надругательстве над детьми, как и он. Если я сделаю это, то я продам свою душу.
И лорд Олдридж думает, что уже купил ее.
Погода стояла отвратительная, под стать угрюмому настроению Уилла. Темное небо весь вечер лило дождь. И это был несчастный вечер.
Уилл обедал с Джорджем Алленом в его доме на Прескот-стрит, чтобы завершить свое вхождение в индийскую торговлю, но находил в этом мало удовольствия. Ост-Индская компания, при всем том, что могла сделать его весьма богатым человеком, ни в какое сравнение не идет с военно-морским флотом его величества. Занятость — не то же самое, что истинная цель.
Не имея цели, Уилл начинал думать, что Престон права. Он начинал думать, что просто убегает.
Она была еще одной причиной, по которой он обедал не дома, чтобы как можно дальше уйти от праздника в теплом семейном кругу после объявления о помолвке его брата Джеймса.
Мама протестовала и просила отложить обед с Алленом, но Уилл держался твердо. Он предвидел, что близость семейства Престон с Сандерсон-Хаусом по весьма понятным причинам усилится. Для графа и графини вполне естественно давать обеды и балы в знак одобрения сделанного Джеймсом выбора, и вполне естественно, что его Престон будет присутствовать на каждом таком мероприятии. Уилл решил оказать любезность им обоим и не смущать ее, не сбивать с толку своим присутствием. Другой выбор свел бы его с ума.
Одному Богу известно, сумел бы он не открыться своей семье, особенно бдительной проницательной матери, которая, похоже, одна в Сандерсон-Хаусе не заметила его увлечения, и единственная в доме не будет рада позволить сыну действовать по собственному усмотрению, если ему придется провести рядом с Престон больше времени, чем те несколько секунд, что требуются для формальной вежливости.
Ему нужно куда-нибудь убраться. Хоть в Индию, если понадобится.
Но, вернувшись поздно, Уилл не мог удержаться и спросил о ней Джеймса, который присоединился к нему в библиотеке, чтобы выпить стаканчик коньяка. Не мог удержаться и возродил свой дискомфорт, как от воспаленного мускула, которым пришлось пошевелить.
— Как прошел обед с семейством Престон?
— Тихо. Смогли присутствовать только мисс Престон и ее мать, — поделился информацией Джеймс, оставив Уиллу строить предположения о причинах отсутствия его Престон, и мирно зашагал по библиотеке.
— Прошу прощения, коммандер. — В дверях библиотеки появился дворецкий Сандерсон-Хауса. — Внизу, в холле, Хэмборн, он хочет видеть вас, если это возможно. Он просил меня передать, что у конюшенных ворот ваш друг.
Волоски на шее Уилла поднялись.
— Престон.
Он взглянул на каминные часы. Половина первого ночи. Что за склонность бродить по ночам в мерзкую погоду.
— Мисс Престон? — быстро спросил удобно устроившийся в кресле Джеймс. — Она недавно уехала. И что ей делать у конюшенных ворот в такое время ночи?
— Рассчитываю, — осторожно сказал Уилл, уже направившись к двери, — что это окажется не твоя мисс Престон, Джеймс. Но лучше нам пойти поговорить со Здоровяком Хэмом, чтобы убедиться. Спасибо.
— Хорошо, коммандер. Хэмборн ждет в служебном холле. Пожалуйста, следуйте за мной.
Пиз был сторонником неукоснительного соблюдения правил этикета и настоял на том, чтобы проводить Уилла и его брата, словно служебные помещения Сандерсон-Хауса были экзотической, не отмеченной на картах территорией, как какой-нибудь остров в далеком Андаманском море. Как будто они с Джеймсом, который следовал за дворецким с той же живостью, что и Уилл, не обследовали здесь каждый закоулок, как только их перестали водить на помочах. Давно это было, но Уилл рассчитывал, что еще помнит дорогу.
В отличие от Джеймса и Уилла, Здоровяк Хэм в этих частях здания чувствовал себя не в своей тарелке. Кучер расположился в проеме двери, ведущей в нижние помещения слуг, словно не желал дальше продвигаться в домашний интерьер.
— Позволь, я сам догадаюсь, Здоровяк Хэм. Одета в самую худшую одежду и слоняется у конюшни.
— Именно так, как вы и подозреваете, мастер Уилл. Я подумал, что вам надо знать. Подумал, вас не очень обрадует, что она на улице в такую ночь. Лондон — это не Гемпшир, сказал я ей.
— Да. Я позабочусь о ней.
Только забота и любопытство поторопили ответ Уилла. Забота о друге. Только это, а не безудержная жажда, которая заставляла его тревожиться и вибрировать от ожидания увидеть Престон. Нет. Он такого не допустит.
— Прошу прощения, молодой сэр. — Здоровяк Хэм положил руку ему на плечо, не давая пройти. — Но она не вас спрашивала. Сказала, что не хочет видеть вас. Она спрашивала мастера Томаса. Сказала, что это важно.
Острое лезвие ревности резануло Уилла с ловкостью гандшпуга. Черт бы ее побрал.
— Томас? — Даже он слышал недоверчивую зависть в собственном голосе.
Здоровяк Хэм не щадил его чувств.
— Да. К тому времени, когда я узнал ее, она уже послала ему весточку. Я сказал ей, что в такой ночной час ей нужно быть дома, в постели, а она ощетинилась, как еж. Сказала, что у нее важное дело, хотя не открыла какое.
Уилл не мог вообразить, какое дело могло быть у Престон с Томасом, но в открытую дверь видел, как тень брата мелькнула на лестничной площадке. Томас спешил в сад за домом.
— Есть только один способ узнать, — пробормотал Уилл и так же быстро, как поднимался по трапу на палубу, помчался по лестнице, чтобы успеть перехватить младшего брата, прежде чем тот исчезнет из виду.
— Томас, — командным тоном остановил он брата.
— Привет, Уилл. — Зевнув, Томас нырнул в дверь, прячась от дождя.
Необоснованная ревность Уилла отчасти рассеялась перед лицом такого откровенного отсутствия интереса.
— Послушай, Томас, лучше скажи, в чем дело, черт побери.
— Я не знаю.
В просачивающемся из дома свете по выражению лица Томаса и торопливо накинутой одежде — на нем было пальто, но лацканы завернулись внутрь, полы рубашки не заправлены, бриджи внизу не зашнурованы — было видно, что он столь же удивлен вызовом, как и Уилл.

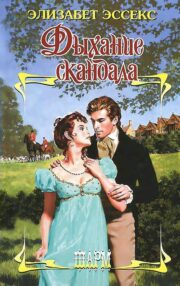
"Дыхание скандала" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дыхание скандала". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дыхание скандала" друзьям в соцсетях.