И вместе с тем это время стало самым счастливым в ее жизни. Перед нею лежал человек, которого она любила всеми силами души, она ходила за ним, как за ребенком, и сознавала, что этот ребенок полностью зависит от нее. Даже в бреду он постоянно упоминал ее имя и всякий раз с каким-нибудь нежным прилагательным. Она чувствовала, хотя и не могла дать себе в том отчета, что в эти тяжелые часы сомнения и страха они стали близки друг другу до такой степени, что их жизни как бы слились воедино. Она чувствовала, что это так, и была уверена, что и в будущем их связь никогда не может быть расторгнута. А потому она была счастлива, хотя и сознавала, что его выздоровление означает для нее вечную с ним разлуку. На последнее она твердо решилась, ибо если однажды в минуту слабости едва не выдала своего чувства, то это не значит, что она не сумеет удержаться во второй раз. И так уже она поступила нечестно по отношению к Бесси, отняв у нее сердце ее будущего мужа. Теперь, конечно, уже нечем помочь горю, но зато следует принять меры на будущее. Джон должен вернуться к сестре.
И вот она просиживала бессонные ночи над изголовьем любимого человека и была счастлива. В этом заключалась вся ее радость. Вскоре он будет взят от нее, и она останется по-прежнему одинокой, но пока Джон возле нее, он принадлежит ей. Держа руку на его голове и прислушиваясь к его ровному дыханию, она испытывала в глубине сердца неизъяснимое наслаждение, ибо в желании охранять сон дорогого существа заключается высшее проявление любви женщины.
Время шло, а кровь больше не появлялась, и вскоре наступило утро, в которое Джон открыл глаза и стал всматриваться в бледное лицо, наклоненное над его постелью, как бы что-то припоминая. Наконец он вспомнил.
— Я был очень болен, Джесс? — произнес он немного погодя.
— Да, Джон.
— И вы ходили за мной?
— Да, Джон.
— Я поправлюсь?
— Конечно.
Он снова закрыл глаза, потом продолжил расспросы.
— Есть ли какие-нибудь вести извне?
— Нет. Дела все в том же положении.
— О Бесси ничего не слышно?
— Нет. Мы отрезаны ото всех.
Наступила минута молчания.
— Джон, — заговорила Джесс. — Есть вещи, которые иногда говорятся в бреду, но за которые люди не отвечают; о таких вещах лучше всего не вспоминать.
— Да, — отвечал он, — я вас хорошо понимаю.
— А потому, — продолжала она тем же спокойным голосом, — постараемся забыть все то, что вы или я невольно высказали со времени вашего ранения и моего обморока.
— Совершенно верно, — согласился Джон, — я со своей стороны отрекаюсь от этих слов.
— Мы оба от них отрекаемся, — поправила она, глубоко вздохнув, и таким образом между ними был заключен договор забвения.
Но оба знали наперед, что это ложь. Если любовь существовала раньше, то разве в его или ее власти уменьшить эту любовь? Конечно, нет. Их дружба сделалась лишь более совершенной и искренней.
Они решились забыть также и сцену в гостиной, когда Джон невольно признался в любви Джесс. Очевидно, его поступок следовало приписать начинавшемуся бреду. Тем не менее оба сознавали, что любят друг друга и что их любовь растет по мере того, как становится все более и более безнадежной. Они толковали о Бесси, о свадьбе Джона, рассуждали о поездке Джесс в Европу, как о вещах совершенно для них посторонних. Короче, если они и забылись однажды, то впредь решили твердо ступать по пути долга, не обращая внимания на острые каменья, до крови резавшие ноги.
И тем не менее все же это была ложь, и ложь сознательная, ибо между ними стояло прошлое, соединившее их навек неразрывными узами.
Глава XIX
Ханс Кетце едет в Преторию
Выздоровление Джона шло быстро. Артерия срослась, и так как сам он от природы отличался крепким телосложением, то вскоре и наверстал обильную потерю крови, а месяц спустя чувствовал себя физически таким же здоровым, как и прежде.
Однажды — это случилось 20 марта — Джесс и он сидели в запущенном садике. Джон полулежал на длинном плетеном кресле, которое Джесс достала для него в одном из домов, покинутых жителями, и курил трубку. Возле него в углублении, устроенном в ручке кресла и предназначавшемся, по всей вероятности, для стакана с водой, лежали гроздья винограда, нарочно для него сорванные рукой Джесс. Он держал на коленях развернутый лист газеты «Новости с театра войны», отличавшейся замечательной скудностью каких бы то ни было известий, что вполне объяснимо для газеты, выходящей в осажденном городе.
Оба молчали, Джон курил трубку, а Джесс оставила на время свое рукоделие и смотрела на тени, ложившиеся по склонам лесистых холмов.
Оба сидели до такой степени тихо и неподвижно, что у них из-под ног смело выползла ящерица, чтобы погреться на солнышке, а затем великолепная бабочка спокойно опустилась на виноград. День выдался чудный, и местность вокруг отличалась необычайной живописностью. От лагеря было далеко, а потому они не могли слышать его беспокойного шума, и единственными долетавшими до них звуками были плеск струившейся невдалеке воды да шелест листьев, производимый слабым ветерком, в то же время доносившим до них аромат распустившихся цветов мимозы.
Они сидели в тени сада перед домиком, к которому Джесс успела привыкнуть и который полюбила, как что-то родное, а все вокруг них — и сад, и домик, и деревья тонули в блеске ослепляющих лучей солнца. Вдали, по ту сторону сада, где пунцовые цветы гранатовых деревьев, казалось, соперничали с красотой роз, раскаленный воздух как бы таял над каменной оградой и расплывался в голубом эфире. Тишина и безмолвие царили кругом. А между тем, несмотря на эту видимую тишину, в ней ключом била молодая жизнь. Жизнь эта сказывалась и в ворковании диких голубей, и в сиянии лучей солнца, в веянии ветра и в порхании мотылька. Джесс глядела на окружающее богатство и красоту природы и чувствовала себя в раю и затем, незаметно предавшись меланхолическому настроению, задумалась о том, сколькие до нее и подобно ей сидели и мысленно рассуждали о том же, о чем и она, и однако навеки исчезли из памяти людей; и сколько еще явится впереди мечтателей, которые так же, как и она, будут сидеть и созерцать окружающую природу, тогда как сама она будет там, откуда не доносится даже эхо. Но что же из этого? Солнце будет вечно светить над землей, вечно будет струиться вода и вечно будет порхать мотылек; а на ее место явятся другие женщины и так же будут складывать руки, глядя на происходящее вокруг, и задумываться над теми же неразрешимыми вопросами, далее которых не идет человеческий ум. И то же повторится через тысячу лет и будет повторяться вечно, доколе не наступит конец существованию земному и доколе мир не перейдет в состояние небытия.
А она — что будет с ней? Будет ли она чувствовать тогда, любить и страдать? Или же все это один жестокий обман? Что она собой представляет: горсть земли — или же существованию ее суждено продолжаться за пределами земной жизни? Что ожидает ее на закате дней? Покой? Она часто об этом размышляла и постоянно надеялась, что это будет именно покой. Но теперь она думает иначе. Ее жизнь приобрела дня нее новый интерес, интерес, который умрет в ней разве только с ее смертью. Теперь она надеялась на загробную жизнь, ибо если жизнь эта существует для нее, то существует также и для него, и наконец настанет желанный день, который соединит их навсегда — старое заблуждение, сладкий бред нашего больного воображения! А между тем кто об этом не мечтал? И пусть себе смеются философы и ученые, но отчего бы и не допустить, что может существовать любовь и тогда, когда давно уже потухли желания?
Джон кончил курить трубку и уже некоторое время наблюдал за выражением лица Джесс. Теперь оно не выглядело бесстрастным, а напротив, отражало волновавшие ее думы и надежды. Рот девушки слегка приоткрылся, в глазах светилось нечто придававшее всему ее лицу какую-то необыкновенную прелесть. Такое же вдохновенное выражение ему доводилось встречать у мадонн на картинах старых мастеров. Джесс вообще не могла назваться хорошенькой. Но в эту минуту Джон заметил, что на ее облике лежит отпечаток божественной красоты, какой он никогда до тех пор не видывал у женщин. Красота эта взволновала его, но не так, как красота Бесси, и заставила отозваться в его сердце те струны, затронуть которые могла одна только Джесс. В ней было что-то неземное, почти устрашающее.
— Джесс, — произнес он наконец, — о чем это вы задумались?
Она встрепенулась, и ее лицо снова приняло обычное выражение.
— К чему вам это знать? — отвечала она.
— Да просто из любопытства. Я никогда еще не замечал у вас такого взгляда.
Она улыбнулась.
— Вы стали бы смеяться надо мной, если бы я вам сказала, о чем думала. Ведь мысли приходят сами собой, помимо нашей воли. Лучше я вам скажу, о чем думаю теперь: о том, когда мы выберемся отсюда. Дядя и Бесси, наверное, потеряли всякое терпение, ожидая нас.
— Да, вот уже более двух месяцев как мы сидим взаперти. Отряд, посланный нам на выручку, видно, уже недалеко, — заметил с иронией Джон, — и здешние жители до сих пор в полной уверенности, что в один прекрасный день увидят вдали сверкающие ряды английских штыков и буров, разбегающихся в разные стороны подобно облакам, гонимым ветром.
Джесс покачала головой. Она давно утратила веру в спасительный отряд.
— Если мы сами себе не поможем, то останемся здесь до тех пор, пока не умрем с голоду, что, по всей вероятности, скоро и случится. А потому нечего об этом и говорить. Теперь же я пойду за провизией. Все ли вы записали, что нужно?
— Все, ступайте с Богом и не беспокойтесь обо мне.
— В таком случае лежите смирно, пока я не возвращусь.
— Вот так раз, — рассмеялся Джон, — да я здоров как лошадь.
— Очень может быть, но ведь это приказание доктора. До свидания.
С этими словами Джесс удалилась, захватив с собой корзину для провизии.
Не успела она отойти пятидесяти шагов, как рассмотрела вдали приближающуюся к ней толстую сияющую фигуру верхом на маленькой знакомой лошадке. Фигура эта также показалась ей знакомой, и, вглядевшись пристальнее, Джесс распознала в ней Ханса Кетце, выезжавшего из ворот Претории.
Джесс просто не хотела верить своим глазам. Старик Ханс в Претории! Что бы это могло значить?
— Дядюшка Кетце, дядюшка Кетце! — закричала она, когда он, поравнявшись с ней, уже сворачивал на Хейдельбергскую дорогу.
Старый бур остановил лошадь и с удивлением начал озираться вокруг.
— Сюда, дядюшка Кетце, сюда!
— Господи Боже! — воскликнул он, повернув лошадь. — Это вы, мисс Джесс? Ну кто бы мог подумать встретить вас здесь?
— Кто бы мог подумать вас встретить здесь? — поправила она.
— Да, да, странно, очень даже странно. Но ведь я вестник мира — знаете, как голубь дядюшки Ноя. Дело в том, — он оглянулся, желая убедиться, что никто его не подслушивает, — что я послан правительством устроить обмен военнопленных.
— Правительством! Каким правительством?
— Как каким? Понятно, триумвиратом, да будет на нем Господне благословение и благое поспешение во всем, как на пророке Ионе, когда он гулял по стенам Иерихона.
— На Иисусе Навине, когда он обходил стены города, — поправила его Джесс, — Иона же прогулялся во чрево китово!
— Совершенно верно, он еще играл на трубе. Теперь я вспомнил, хотя решительно не понимаю, как он ухитрился это сделать. Дело в том, что блестящая победа отшибла у меня память. Да, вот что значит быть патриотом! Господь дает силу мускулам патриота и заботится о том, чтобы удар его пришелся в середину врага.
— Удивительно, как вы быстро сделались таким горячим патриотом, дядюшка Кетце! — ядовито заметила Джесс.
— Да, мисс, да, я сделался патриотом до мозга костей, я ненавижу английское правительство! Будь оно трижды проклято, это английское правительство! Я стою за возвращение наших древних владений и за народное представительство! И в правоте нашего дела я совсем недавно убедился при Лейнгс Нэке[37]. Несчастные роой батьес! Я сам застрелил четверых: двоих, когда они взбирались на гору, и двоих в то время, когда они бежали; один из них кувырком полетел с утеса, как раненый олень! Бедняга! Я потом о нем плакал. Я вовсе и не хотел идти на войну, но Фрэнк Мюллер прислал ко мне сказать, что если я не выйду, то буду казнен. Да, этот Фрэнк Мюллер — сущий дьявол! И вот я отправился, но когда увидел, что Господь внушал английскому генералу[38] сделаться еще большим дураком, чем он был всегда, и попытаться с тысячью роой батьес выгнать нас из Лейнгс Нэка, — то, повторяю вам, я воочию убедился в правоте задуманного предприятия и воскликнул: «Будь оно проклято, английское правительство! К чему оно нам?» А после битвы при Ингого[39] я эти же слова повторил снова.

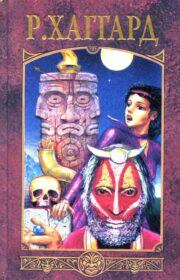
"Джесс" отзывы
Отзывы читателей о книге "Джесс". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Джесс" друзьям в соцсетях.