Он был прав: Нишетта много страдала. Да и Густав не мог одолеть волнения. Сначала он хотел разорвать письмо из боязни, чтоб его не нашли; потом под влиянием какого-то смутного суеверия решился его сохранить, поцеловал розовые листочки и положил их в молитвенник Лорансы.
Через два часа Лоранса де Мортонь уже называлась г-жою Домон.
Почти в то же время в Париже женщина, покрытая вуалью, с глазами, раскрасневшимися от слез, садилась в дилижанс, отправлявшийся в Тур.
Эта женщина была Нишетта.
XXVII
Куда нам отправиться, читатель? За дилижансом ли, в котором уезжала Нишетта, или за свадебным поездом Домона?
Последуем, как эгоисты, за счастливыми.
Густав и все его окружающие были счастливы.
На деревьях выбегали первые листья, весеннее солнце сменило непродолжительные холода. Воротилась весна; для Эдмона воротилось здоровье.
В Ницце все знали о болезни Эдмона, и все приняли участие в его выздоровлении. Поздравляли г-жу де Пере, поздравляли Дево; нельзя было видеть без участия молодого человека, еще бледного и худого, но уже улыбавшегося с надеждою, возле молодой женщины, преданной ему и прекрасной.
Свадьба Густава была как бы второю свадьбою для Эдмона. Она напоминала ему его свадьбу и с его выздоровлением будто налагала на него новые обязанности в отношении к Елене.
Густав возле Лорансы, Дево возле г-жи де Пере, все молились с надеждою и благодарностью. Слезы были на всех глазах.
— Разве твой муж опять сделает такую же глупость, как тогда, — сказал доктор дочери, — а вообще теперь нечего бояться. Он спасен.
Для Эдмона открывалась новая жизнь, не отравляемая беспокойною мыслью.
Сердце его бежало навстречу впечатлениям: все его занимало от дома до церкви и потом от церкви до дома. Весна отражалась в его сердце. Распускавшиеся на слабых еще стебельках цветы, листья, покрывавшие уже деревья, теплый весенний воздух — все напоминало его положение.
Взгляд Елены довершал его обаяние; вместе с здоровьем ему возвращалась любовь.
Вместе с жизнью тела — жизнь духа.
Кровь обращалась в его венах свободно; он легко дышал и смотрел с наслаждением на все его окружавшее. Он будто говорил бегавшим по дороге детям: «Скоро и мне можно будет так же бегать!..» Все его счастье было впереди. Он, как победитель, шел, предшествуемый трубами и литаврами. В нем и кругом него все цвело, улыбалось, пело.
Новые стремления поднялись в нем. Десять месяцев, проведенные с Еленой, исчезали, как минута, перед обещанными ему многими годами. Прошедшая любовь казалась ему ничтожною в сравнении с кипевшею в нем теперь. Он мечтал об Елене, как о прекрасной невесте, до тех пор ему недоступной.
Он был более чем влюблен; он себя чувствовал поэтом. Все свои впечатления выражал он, как художник, с замкнутою стройностью и полнотой. Никогда еще не был он так вполне счастлив.
Ограничивать будущность свою двумя годами, с каждым минувшим днем повторять: «Еще шаг к смерти», выстрадать предстоящие страдания до времени, свыкнуться с мыслью, что придется скоро оставить жизнь, молодость, мать, жену — и потом вдруг возвратиться к надежде снова очутиться в среде, исполненной очарований, снова уверовать в жизнь — разве это не счастье, счастье полное и невыразимое, не признавать которое было бы неблагодарностью, оскорблением Бога?
Самый домик, в который входили эти люди, казалось, проникнут был счастьем: отворенные окна весело выставляли лучам солнца свои цветы. Жимолость обвивала стены; проходивший мимо не мог видеть без удовольствия этот белый с зелеными ставнями домик, из которого, как из гнезда, будто слышалась веселая песня.
Не думая, чтобы когда-нибудь столько счастливых собиралось под одной кровлею, Густав наслаждался в действительности воспоминаниями и надеждами Эдмона. Женившись на Лорансе, он удивлялся, как мог жить до этого времени. Ее чистая первая любовь, светлая, южная весна пробудили в нем новые, неведомые ему до тех пор чувства.
Каждое утро Густав и Лоранса садились на лошадей; Эдмон и Елена у окна провожали их глазами до тех пор, пока наши всадники не исчезали в облаках пыли, поднятой их лошадьми.
Главнейшими занятиями для них были музыка и чтение: Гюго, Ламартин и Альфред де Мюссе были любимыми поэтами, Шуберт, Вебер и Скудо — любимыми композиторами.
Лоранса читала, Елена пела — Эдмон приходил поминутно в восторг. Любовь и мечты поэтов, страстные и тихие мелодии композиторов находили в его сердце полнейший отголосок, и он готов был вечность прожить при таких условиях.
Елена с Лорансой легко и искренне подружились; они поочередно стали поверять одна другой свои мысли и впечатления. Молодым замужним женщинам есть о чем поговорить между собою, когда они дружны и обе равно любимы. И зато как очаровательны эти вечерние разговоры, эта наивная передача новых, едва прочувственных впечатлений!
Елена рассказала Лорансе, как она встретила Эдмона, как она, узнав о его болезни, жалела о нем, как потом решила, что эту встречу устроило само Провидение, вручившее ей будущность больного и наложившее на нее ответственность за счастье немногих остающихся ему дней.
— Все это ваш муж устроил, Лоранса, — говорила она, — он дал мне решимость не принадлежать никому, кроме Эдмона. Я Густаву обязана своим счастьем. Бедный Эдмон! Я еще не знала, любила ли его; теперь благодарю Бога за свою решимость. Вы поймете это: я за него вышла с роковым убеждением, что через каких-нибудь два года он умрет и в молодости оставит меня вдовою — а теперь вдруг он спасен, нам предстоит такая же, как и другим, будущность, горизонт наш расширился, и нам пророчат долгие годы! Оба мы молоды, оба богаты, любим друг друга, может быть, сильнее, чем в первый день нашей свадьбы, с такими, как вы, друзьями, с таким отцом, как мой, с такою матерью, как г-жа де Пере — чего же желать нам еще и чего бояться?
— Да, мы все вполне счастливы, — отвечала Лоранса.
— И мы теперь никогда не расстанемся, мы составим одно семейство. Хотите? Наши мужья дружны, как братья.
— Мы будем дружны, как сестры, — отвечала г-жа Домон, обнимая Елену.
— Из Ниццы мы выедем, — продолжала Елена, — ваш отец не любит сидеть долго на месте. Мы отправимся путешествовать; сегодня здесь, завтра там; нас связывают любовь, дружба, и мы везде будем счастливы.
Г-жа де Пере часто вмешивалась в их разговоры. Так как вся жизнь ее была в жизни сына, то она более ничего не требовала, как только сопровождать их, уверенная вполне, что с ними ей будет везде хорошо.
Лечение Эдмона продолжалось с успехом почти невероятным. С каждым днем укреплялось здоровье больного: щеки покрывались румянцем, лихорадка пропала, сон был спокоен. Последний признак болезни — несколько меланхолическое настроение духа — с каждым днем исчезал.
Месяцев через пять по приезде доктора в Ниццу, он сказал однажды Эдмону:
— Ну, вы теперь совершенно здоровы, а мне нужно к моим больным, которых я для вас оставил в Париже.
Эдмон и Елена переглянулись.
— Стало быть, нечего больше и бояться? — спросила молодая женщина.
— Повторяю еще раз: нечего.
— И в Париже Эдмон может жить так же, как в Ницце?
— Может.
— Так отчего же и нам не поехать с тобою?
— Я буду очень рад.
— Нас здесь ничто не удерживает, ни нас, ни Густава с женой, мы не расстанемся с вами, — сказал Эдмон, взяв доктора за руку, — разлука с вами принесет нам несчастье.
— Так едемте все.
— Как я буду радоваться снова, увидав нашу комнатку, — сказала Елена, обнимая мужа, — комнатку, в которой мы так любили друг друга и так еще будем любить, — не правда ли?
Ответом был, разумеется, поцелуй.
Было положено, что Густав и Лоранса поселятся в том же доме, если позволит помещение; если нет, на той же улице Трех братьев, и вообще не расстанутся и в Париже.
Через два дня две почтовые коляски стояли у белого домика.
Расставаясь с ним, Елена проронила несколько слезинок. Какое-то смутное предчувствие говорило ей, что в нем она оставляет часть своего счастья. Нужно ли объяснять все ее воспоминания и надежды перед отправлением?
Лоранса, наследовавшая от отца наклонность к кочующей жизни, никогда не жалела покидаемых мест.
— Мать, — тихо сказал г-же де Пере Эдмон, — скажи, что проездом ты хочешь быть в Туре.
— Зачем? — спросила г-жа де Пере.
— Мне нужно навестить одну пустынницу.
Г-жа де Пере исполнила желание сына. Приехали в Тур.
Выходя из кареты, Эдмон тихо сказал Густаву, не спрашивавшему, но уже знавшему намерение своего друга:
— От тебя сказать что-нибудь Нишетте?
— Ты к ней пойдешь? — сказал Густав.
— Да, я должен.
— Пожми ей от меня руку; больше ничего.
— А ты не пойдешь со мной?
— Лучше пусть меня не видит!
Эдмон справился, где магазин Шарлотты Туссен. Ему указали улицу.
Это был маленький, но со вкусом устроенный магазин чепчиков, кружев, лент и проч.
Не входя еще, Эдмон заглянул в окна.
Нишетта сидела за прилавком. Бедная девушка была очень бледна и вся в черном, как в трауре. Она работала.
«Сколько перенесла бедняжка, — подумал Эдмон, — с тех пор, как я видел ее последний раз, вот так же за работой — у другого окна!..»
Он вошел.
Нишетта подняла голову и, узнав Эдмона, вскрикнула. Эдмон хотел обнять ее, она сама бросилась к нему на грудь, заливаясь слезами.
Сильнее всяких слов говорило ее волнение.
— Ну как вы теперь, Эдмон? Здоровы? — спросила Нишетта, несколько оправившись и с твердым намерением не упоминать о Густаве.
— Меня вылечили, Нишетта, я совсем здоров.
— Слава Богу! Уж я как вас жалела, сколько молилась за вас!
— Добрая Нишетта!
— Вы одни здесь?
— Нет, с женою, с…
— С кем? — вырвалось у побледневшей модистки.
— С матерью.
По интонации ответа Нишетта поняла, что и Густав с женою были в Туре и что Эдмон не сказал ей этого, видя, что она побледнела.
— Вы едете в Париж?
— Сейчас едем. Я только заехал в Тур, чтобы обнять вас, Нишетта, и чтобы сказать вам, что люблю вас по-прежнему.
— Не проходит дня, чтобы я не вспоминала о вас и о том времени… когда виделась с вами так часто. Помните наши пирушки на улице Годо? Для меня это было счастливое время.
Слезы опять выступили на глазах Нишетты, да и Эдмон плохо владел собою.
«Как решился Густав ее оставить?» — задал он себе вопрос.
— Не будем говорить об этом, — сказала Нишетта, прикладывая платок к глазам. — Вас по-прежнему любят… жена, мать?.. Здоровы они?
— Слава Богу.
— Будьте, Эдмон, счастливы. Дай Бог!
— Ну, а вы как, Нишетта? Счастливы?
— Да, — отвечала она со вздохом, — сколько могу; Шарлотта очень добра, заказов у нас всегда довольно; да, я счастлива.
Если бы Нишетта, рыдая, жаловалась на свою участь, ее жалобы и рыдания не отозвались бы так тяжело в сердце Эдмона, как эти простые, дышавшие покорностью слова.
Во все время разговора имя Густава не было произнесено ни разу; но во все время оно было в голове и в сердце модистки.
Ей мучительно хотелось, чтобы Эдмон заговорил о Густаве; но Эдмон не решался, она стала бы расспрашивать, а что можно отвечать про счастье человека оставленной им женщине? Не хотел он тревожить ее чуткие воспоминания.
Когда две почтовые коляски выезжали из Тура, женщина под вуалью стояла, скрывшись за деревом и полагая, что ее не видно с дороги.
— Видел? — тихо спросил Эдмон у своего друга.
— Что?.. Да… видел, — отвечал, запинаясь и с волнением, Густав. — Нишетта? Да?
— Как она изменилась, Густав!
— Бедная девушка! — прошептал Домон.
И слеза скатилась с его ресниц.
Эпилог
Читатель!
Если ты веруешь, что поэзия юности до могилы сопровождает человека;
если не все твои мечты разлетелись; если ты хочешь видеть только хорошую сторону жизни;
если отвергаешь смешение добра и зла в человеке; если ничто не оскорбляло тебя в жизни, если ты искренно дружен десять лет с одним человеком, если жена тебя не обманывала, если ты сумел сохранить во всей чистоте и силе свою любовь к ней, если не бросал ты назойливому и неотвязному нищему — своему прошедшему — его милостыню — слезы;
если ты полагаешь, что молодой, любимой жены, независимого положения, денег и здоровья довольно человеку для счастья, закрой, добрый человек, эту книгу — ты прочитал уж ее последнюю главу; мне тебе нечего рассказывать, ты мне не поверишь; да я и сам не хочу смущать тебя, разрушать твои верования. Если герой мой на несколько часов доставил тебе сносное препровождение времени, радуйся тому, что он жив, здоров и что его любят.

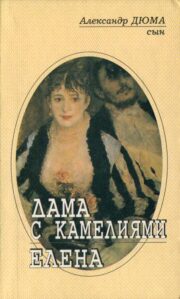
"Елена" отзывы
Отзывы читателей о книге "Елена". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Елена" друзьям в соцсетях.