— Чахотка в сильном развитии! — сказала Елена, садясь за стол. — Что, это очень опасно, папенька?
— Так опасно, что при самом внимательном лечении он проживет не более трех лет, а без лечения не протянет и двух, — отвечал доктор.
— И он знает это?
— К счастию для него, нет. Чахоточные никогда не подозревают настоящего своего положения.
Елена задумалась над этими простыми словами. Ей стало жаль Эдмона. Он безраздельно овладел ее воображением: месяцы упорных исканий и преследований не могли бы для него сделать то, что сделала предстоящая ему опасность.
После завтрака, когда доктор уехал к своим пациентам, Елена вошла в свою комнату, грустная, задумчивая…
Старая ее гувернантка тотчас же уселась и внимательно принялась читать первую страницу «Кенильвортского замка».
Елена села к окну: шторы были спущены, но время от времени молодая девушка украдкой взглядывала на улицу.
Принялась было она за шитье, но руки ее не двигались, шитье упало к ней на колени: новость ощущений погрузила ее в глубокую задумчивость.
Эдмон никак не мог подозревать, какое тяжелое впечатление оставит в молодой девушке его свидание с доктором.
Елена была крайне впечатлительна. Сердце ее было восприимчиво и постоянно открыто страданиям ближнего, как вообще у натур тонко развитых. За два года перед этим лишившись матери, она едва пережила свою потерю: с тех пор ее сердце сделалось еще восприимчивее, сочувствие к чьим бы то ни было страданиям развилось в ней еще сильнее.
Притом же смерть матери оставила в сердце Елены пустоту, которую ничто не могло наполнить: ни привязанность к отцу, ни постоянно новые мечты, наполняющие воображение молодых девушек, как первые весенние листья, покрывающие свежею зеленью черные, оледенелые сучья деревьев.
Эдмон дал Елене повод воротиться к мысли о понесенной ею потере: от горя ребенка, потерявшего мать, она мысленно перешла к горю матери около умирающего сына.
«Горе ребенка, — думала она, — проходит с летами, горе матери лишено этого утешения, лишено любви, которая так примиряет с жизнью в молодости».
И она невольно стала думать о матери молодого человека, советовавшегося с отцом ее и не подозревавшего даже, что он так близок к смерти.
Она видела отчаяние бедной женщины, и перед нею носились — вместо спокойного, кроткого лица Эдмона, вместо больших голубых глаз, недавно еще устремленных на нее с любовью, — лицо, обезображенное смертью, холодное, бледное, глаза без взгляда и выражения, сжатые вечным безмолвием губы…
«Бедный!» — говорила она, содрогаясь невольно.
Чувство сострадания в сердце молодой девушки граничит с чувством любви.
«Который ему год? — думала Елена, возвращаясь опять к живому Эдмону. — Двадцать два, самое большее двадцать три, а уже природа положила предел его существованию через два, через три года! И он ничего не знает, вошел сюда, воображая, что совершенно здоров, и не думая, что ему придется услышать смертный приговор. Он хотел узнать мое имя, хотел видеть меня и какой ужасный предлог выбрал для этого!
Его мать тоже ничего не знает: она гордится своим сыном, она счастлива. Бедная женщина! Участие к ней требует, чтобы ее предупредить. Задолго до рокового удара она свыкнется, сроднится с его близостью.
Не написать ли ей, что мне сказал отец? Может быть, еще есть время, еще можно спасти его.
Если бы я была сестрою этого молодого человека, как бы я за ним ухаживала, с какою преданностью выполняла бы его малейшую волю!
Я бы усладила краткий срок его существования.
Боже мой! Кто знает, какое несчастье предстоит ему! Его мать может умереть раньше; он угаснет один, без друзей, без родных, без любимой женщины, которая бы закрыла ему глаза.
Это ужасно! Боже мой, зачем я дочь человека, живущего болезнями ближних! Как прямо и хладнокровно говорит мой отец! Наука делает человека эгоистом, равнодушным к страданиям. «Не протянет двух лет», — сказал он про молодого человека и сказал без участия, даже без малейшего волнения. И к чему же эта наука, когда она бессильна над определениями природы?
Кажется мне, что привязанность и нравственные усилия могут спасти человека там, где материальные средства науки оказываются бессильными.
Я так много думаю об Эдмоне де Пере, а может быть, он сам виною своей болезни: может быть, он проводит ночи в оргиях и в игре, как большинство молодых людей, по словам отца.
Нет! — продолжала Елена после некоторого размышления. — На его лице нет следов беспорядочной жизни, черты его так женственны, в глазах столько привлекательной кротости! Говорят, что влияние того рода болезней чрезвычайно сильно на ум и сердце страдающих ими, что они могут сильнее любить, глубже чувствовать, вернее понимать и проникаться поэзиею.
Да, им определено жить так мало, что они, будто боясь потерять лучшие мгновения жизни, предаются им безраздельно.
Я хочу изучить эту болезнь — да. Когда г-н де Пере придет еще раз, а он придет непременно, я в этом уверена, — я не спущу с него глаз, узнаю истину и буду знать, что мне делать. Отец может ошибиться; указания науки не всегда верны; но не ошибусь я — сердце мне говорит, что я не ошибусь».
Так думала или, лучше сказать, мечтала Елена, как вдруг возле нее послышался легкий шум, обративший ее к действительности. Шум произведен был падением книги: г-жа Анжелика по привычке заснула над второй страницей романа.
Два года, с самого вступления Анжелики в дом г-на Дево, по смерти его жены, почтенная гувернантка каждый день после завтрака садилась, летом к открытому окну, зимою к камину, и принималась читать «Кенильвортский замок».
Но никогда не заходила она далее песни трактирщика Гослинга:
Когда лошадь в конюшне,
Всаднику можно выпить вина…
А это двустишие, как известно всем читающим, находится на второй странице романа, что и доказывает очень ясно непродолжительность литературных стремлений достойной гувернантки.
Каждый раз, дойдя до этого двустишия, Анжелика засыпала так сладко, что книга вываливалась из ее рук. Факт этот обратился в непреложный закон природы.
Елена, изучившая привычки своей гувернантки, найдя на полу книгу, улыбнулась.
— А! — сказала она. — Моя гувернантка дошла до пятьдесят второй строчки «Кенильвортского замка».
Обыкновенно после падения книги Елена вставала, будила свою гувернантку и болтала с нею о чем придется, только чтобы не быть одной, потому что героиня наша боялась тишины и одиночества; но на этот раз ей хотелось, чтоб никто не мешал ее задумчивости, и уроненная книга валялась по-прежнему на полу.
Против обыкновения тоже, Анжелика едва задремала при падении книги, и легкий шум разбудил ее; она торопливо протерла глаза, оглянулась во все стороны, подняла «Кенильвортский замок», закрыла его и преспокойно положила на камин, не имея даже ни малейшего желания узнать, что отвечал путешественник на приглашение трактирщика; потом, положив на колени руки, начала обводить большой палец левой руки кругом большого же пальца правой.
— Скажите, я задремала! — сказала она, удивленная по обыкновению.
— Да, — отвечала Елена, — спите, я вам не мешаю, вы так сладко уснули…
— Нет, я не хочу спать.
— Так читайте…
— Читать нечего.
— А «Кенильвортский замок»?
— Да уж я кончила.
— Кончили! — сказала Елена, весело рассмеявшись. — То есть как кончили? Пятьдесят две строки, помноженные на семьсот тридцать дней, — потому что вы, вот уже два года, каждый день прочитываете по пятьдесят две строчки, — составят около тридцати шести тысяч строчек, а их в целой книге гораздо менее; но ведь вы, к несчастью, каждый день только повторяете зады.
— Все равно, — отвечала Анжелика, — по началу видно, чем роман должен кончиться, а больше ничего и не надобно.
С читательницею, понимающею таким образом литературные произведения, спорить, разумеется, невозможно.
Елена не возражала, но тем не менее ей хотелось отрешиться от тяжелых мыслей, которыми волновало ее ум ее впечатлительное сердце.
Бедняжка не знала, что делать; ее мысль была прикована к имени Эдмона.
Это объясняется очень просто тем, что наш молодой человек бессознательно, но верно, обратился прямо к ее сердцу, сам того не зная, он дал Елене повод жалеть о нем; он вошел в ее душу тем потаенным ходом, который всегда открыт у натур молодых и добрых.
Если бы Эдмон был здоров, весел, ему никогда не удалось бы так скоро завладеть сердцем молодой девушки.
Думая отделаться от непривычных мыслей, Елена встала и начала ходить по комнате.
— Добрая Анжелика, — вдруг сказала она, — пойдемте гулять.
— Пойдемте, — отвечала гувернантка, — погода хорошая.
— Скажите мне, Анжелика, — сказала Елена, почти невольно делая этот вопрос, — знавали ли вы когда-нибудь чахоточных?
— А что?
— Так: я вам после скажу.
— Знавала.
— Все ли они умирают?
— О! Боже мой, нет. Я знаю одну даму: она вовсе не лечилась и теперь совершенно выздоровела.
— Как же это!
— Она два года провела на юге.
— Это всегда помогает?
— Нет, но почти всегда.
— Ему нужно на юг, — вырвалось невольно у Елены.
— Кому это? — спросила удивленная Анжелика. — Что вы сказали?
Елена вся покраснела.
— Пожалуйста, сыщите мою мантилью и шляпку: они там, в той комнате.
Не успела Анжелика уйти, как уже Елена, повинуясь инстинктивному внушению сердца, взяла листочек бумаги и написала торопливо два слова: «Поезжайте на юг»; свернула, запечатала, написала адрес Эдмона и тотчас же положила письмо под корсаж.
Анжелика, вошедшая с шляпкой и мантильей, ничего не заметила.
Наивная девушка вообразила, что нашла средство спасти Эдмона.
Вообразила, что эти два слова убедят молодого человека в необходимости путешествия, что он тотчас же поедет и вернется толстым и здоровым, как приятельница ее гувернантки. В этом письме выразилась вся ее золотая наивность. Ни минуты не подозревала она, какой смысл можно было придать этим словам.
Сама не зная, что делает, Елена бросилась на шею гувернантке и крепко поцеловала ее.
— Пойдемте, моя добрая, — сказала она, — день так хорош, нужно пользоваться.
Гувернантка, вся в черном, последовала за своей воспитанницей.
На улице Елена долго искала что-то глазами; наконец, найдя почтовый ящик, вынула из-под корсажа письмо и опустила его.
— Кому это вы пишете? — спросила гувернантка.
— Дельфине; вот уже неделя, как я не виделась с нею.
Дельфина была пансионскою подругою Елены.
Это была первая ложь Елены, но она не раскаивалась в том, что солгала; она даже гордилась этим, как добрым делом.
Да и разве не сделала Елена доброго дела? Целый день потом она была веселее, чем когда-нибудь, весела именно веселостью добрых…
Возраст, золотой и счастливый, когда сердце испытывает и печали и радости в самое короткое время и, по-видимому, без всяких причин!.. Как напоминает он весенние дни, когда вечером на свежей траве не заметно даже следов утреннего дождя!
IX
Густав пришел к Эдмону уже поздно; вместо своего друга он нашел только известную читателю записку.
«Да будет!» — подумал Домон и терпеливо решился ждать последствий.
Эдмон вошел беспечно и весело; в его руке был рецепт доктора.
— Ну?.. — спросил Густав, только что его друг показался. — Ну что? — нетерпеливо повторил он, не умея скрыть тревоживших его опасений.
— Что? Ничего! — отвечал Эдмон со смехом. — Ты будто ожидал чего-то недоброго!
— Видел ты Дево? — несколько хладнокровнее спросил Густав, успокоенный веселым лицом своего друга.
— Разумеется, видел: для чего ж я и шел?
— Что он? Что сказал?
— Что сказал! Сказал, что обыкновенно говорят доктора; рецепт прописал.
Густав чуть не вырвал рецепт из рук своего друга и с жадностью стал читать его.
В рецепте не было ничего важного: было прописано одно из обыкновенных медицинских средств для ничтожных болезней.
Густав вздохнул свободнее.
— Идем завтракать, — сказал он, — г-жа де Пере ждет нас.
— Идем, идем, но скажи, пожалуйста, отчего ты хотел, чтобы я никуда не выходил, не повидавшись с тобою?
Вопрос этот несколько затруднил Густава.
— Я хотел звать тебя обедать, — отвечал он, только чтоб отвечать что-нибудь.
— Куда это?

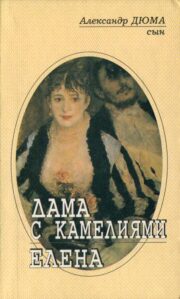
"Елена" отзывы
Отзывы читателей о книге "Елена". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Елена" друзьям в соцсетях.