Шейт двинулась в путь, а ее хозяйка не без опасений стала ждать в зале для приемов. Она не сомневалась, что он примет ее приглашение. Пока Радопис ждала, она поймала себя на том, что сильно тревожится, а сейчас вспомнила, как властно и холодно вела себя в прошлом. Она поняла, что с того дня, как влюбилась, стала слабой и боязливой женщиной, которую во сне мучили нелепые галлюцинации и ложные страхи.
Как она и ожидала, Таху явился, облаченный в парадную форму, что ее немного успокоило. Он будто убеждал ее в том, что забыл Радопис, куртизанку из белого дворца, и явился на аудиенцию к другу своего повелителя.
Командир склонил голову в знак почтения и уважения и, заговорив спокойно, без малейшего проявления чувств, произнес:
— Да осчастливят боги дни твои, почтенная сударыня.
Радопис внимательно посмотрела ему в лицо и ответила:
— И твои также, благородный командир. Благодарю тебя за то, что ты откликнулся на мое приглашение.
Таху снова отвесил поклон:
— Я к твоим услугам.
Таху остался почти прежним — такой же сильный, здоровый, с загаром медного цвета, однако от ее внимательного взгляда не ускользнула случившаяся с ним перемена. Ее могли обнаружить только ее глаза. Радопис тут же заметила поблекший взгляд Таху, лишивший его глаз жизни, а лицо выражения решимости, никогда не покидавшего его. Она забеспокоилась, что причина этого кроется в событиях той странной ночи почти годичной давности, когда они расстались. Как это ужасно! Таху тогда напоминал вихрь, теперь, скорее, спертый воздух.
— Я пригласила тебя, — начала Радопис, — Дабы поздравить с великим доверием, какое к тебе испытывает фараон.
Таху не скрывал своего удивления и ответил:
— Благодарю, моя сударыня. Это давняя милость, оказываемая мне богами.
Выдавив улыбку, Радопис лукаво сказала:
— Я также благодарю тебя за прекрасные слова, какими ты похвалил мою идею.
Таху задумался на мгновение и вспомнил, о чем идет речь.
— Наверное, моя госпожа имеет в виду блестящую идею, которую породил ее возвышенный ум?
Радопис кивнула, и он продолжил:
— Это прекрасная мысль, достойная твоего выдающегося ума.
Не выказав признаков удовлетворения, Радопис ответила:
— Успех задуманного обеспечит нашему повелителю власть и независимость, а царству — мир и устойчивость.
— Верно, в этом не может быть сомнений, — ответил Таху. — Вот почему мы восприняли твою мысль с такой радостью.
Радопис заглянула в глубины его глаз и сказала:
— Скоро наступит день, когда потребуется твоя сила и власть, дабы претворить мою мысль в жизнь, увенчать ее победой и успехом.
Таху наклонил голову и ответил:
— Благодарю тебя за бесценное доверие.
Радопис молчала. Таху говорил с достоинством, спокойно и серьезно, она знала, что в прошлом он вел себя не так. Да она и не ожидала от него иного поведения, и теперь он внушал ей доверие и покой. Радопис чуть не поддалась жгучему порыву заговорить о старом, просить Таху простить ее и забыть обо всем, но не нашла подходящих слов. Смущение взяло верх над ней, и она опасалась, как бы не сказать совсем не то. Растерявшись, она неохотно отказалась от этой мысли. Однако Радопис в последний момент решила открыть перед ним свои добрые намерения иным путем — она протянула руку, улыбнулась и сказала:
— Я протягиваю тебе руку в знак дружбы и глубокой признательности.
Таху прижал свою огрубевшую руку к ее мягкой и нежной ладони. Казалось, этот жест тронул его, но он ничего не сказал. Так закончилась их короткая встреча, вызвавшая роковые последствия.
Возвращаясь на судно, Таху отчаянно спрашивал себя, с какой целью его пригласила эта женщина. Он дал волю чувствам, которые сдерживал в ее присутствии, пришел в неистовство, его лицо побледнело, все тело тряслось. Вскоре он ударился в беспамятство, и, пока весла несли судно вперед, Таху шатался как пьяный, словно возвращался с поля брани с поражением, его мудрость и честь лежали в руинах. Ему казалось, будто пальмы, росшие вдоль берега, дико пляшут, а воздух насыщен удушающей пылью. В нем бурлила горячая и страстная кровь, зараженная безумием. На столе каюты нашелся кувшин с вином, и Таху осушил его. От вина он потерял рассудок, впал в уныние и бросился на тахту, раздираемый безвыходным отчаянием.
Разумеется, он не забыл Радопис. Она жила в потаенных глубинах сознания Таху, там ее схоронили его желание утешить себя, терпение и острое чувство долга. Теперь, когда он впервые за целый год увидел ее, этот тайник в его душе распахнулся, из него вырвались языки пламени и стали пожирать все его существо. Его мучили стыд и отчаяние, его гордость погибла. Дважды в течение одной битвы он отведал вкус унижения и поражения. Таху чувствовал, как кружится голова, он почти терял равновесие, он гневно разговаривал сам с собой. Он знал, почему Радопис взяла на себя труд пригласить его. Она позвала Таху, чтобы выяснить, можно ли рассчитывать на его преданность и не тревожиться о судьбе возлюбленного повелителя. Ради этого она сделала вид, будто осталась к нему дружелюбной и восхищается им. Как странно, Радопис, капризное и жестокое существо, испытывает боль и тревогу, познав, что такое любовь, какие опасения и мучения сопряжены с ней. Она опасалась предательства Таху, цеплявшегося когда-то подобно пылинке за подошву ее сандалии. Радопис стряхнула его, когда ею овладели скука и отвращение. Горе небесам и земле, горе всему миру. Им завладело невыразимое отчаяние, стиравшее в порошок его гордый и могучий дух. Гнев Таху становился неистовым и безумным. От ярости у него вскипела кровь, давила на уши, он почти оглох, глаза затуманились, мир казался ему бушующим огнем.
Таху покинул судно, как только оно причалило к ступеням царского дворца, и, не замечая приветствий стражи, шаткой поступью направился через сад к казармам и квартирам начальника стражи. Вдруг он обнаружил, что первый министр приближается к нему, возвращаясь из покоев фараона. Софхатеп встретил его с улыбкой на устах. Таху стоял перед ним, храня бесстрастное лицо, будто не узнал того. Первый министр удивился и спросил:
— Как дела, Таху?
— Я похож на льва, угодившего в ловушку, — со странной поспешностью ответил тот, — или на черепаху, которая перевернулась на раскаленной плите.
Софхатеп был поражен.
— Что ты такое говоришь? Почему ты похож на льва в ловушке или черепаху на плите?
— Черепаха живет долго, — ответил Таху, словно во сне. — Она передвигается медленно и придавлена тяжелой ношей. Лев отступает назад, издает рев, совершает молниеносный прыжок и задирает свою добычу.
Софхатеп удивленно всматривался в лицо Таху.
— Ты разгневан? — спросил он. — Ты совсем не похож на себя.
— Да, разгневан. Ты хочешь лишить меня такой возможности, почтенный сударь? Я — Таху, царь войны и битвы. Ах, как же мир терпит этот скучный покой? Боги войны ждут, и мне однажды придется утолить их нестерпимую жажду.
Софхатеп кивнул, дабы угодить командиру:
— Ах, теперь я понимаю. Все дело в этом отменном вине из Марьюта.
— Нет, — твердо ответил Таху. — Нет. Если честно, то я выпил чашу крови. Видно, она была порочной и заразила мою кровь. Но это не самое худшее. По пути сюда я встретил доброго духа, тот спал на лугу, и я пронзил его сердце своим мечом. Отправимся на поле брани, ибо кровь — это напиток бесстрашного солдата.
— Нет сомнений, все дело в вине, — с тревогой заключил Софхатеп. — Тебе следует немедленно вернуться в свой дворец.
Однако Таху презрительно покачал головой:
— Будь очень внимателен, первый министр. Остерегайся испорченной крови, ибо она уже сама по себе ядовита. Терпение черепахи иссякло, а лев совершит прыжок.
Сказав эти слова, Таху пошел своей дорогой, не замечая ничего вокруг. Софхатеп провожал его изумленным взглядом.
Ожидание
Во дворце фараона, во дворце на острове Биге и в Доме правительства все с нетерпением ждали возвращения гонца. Однако все с уверенностью смотрели в будущее. Каждый истекший день приближал Радопис к победе, ее грудь согревала надежда. Такое радужное настроение, возможно, ничто не испортило бы, если первый министр не получил бы угрожающее письмо от жрецов. Обычно Софхатеп либо не обращал внимания на такие письма, либо считал своим долгом показывать их царице, однако на этот раз он почувствовал, что угроза значительно возросла. Не желая навлечь гнев своего повелителя за то, что он утаил письмо, хотя показать его тоже значило вызвать недовольство, он встретился с фараоном и прочитал ему это послание. Оно представляло собой напыщенную петицию, подписанную всем духовенством во главе с верховными жрецами Ра, Амона, Птаха и Аписа. В ней жрецы обращались к фараону с просьбой вернуть храмовую собственность подлинным владельцам, обожаемым богам, которые берегут и охраняют фараона, и в то же время уверяли, что не подали бы своей петиции, если бы обнаружили причину, требовавшую изъятие земель.
Письмо было выдержано в резких выражениях, и фараон разгневался. Он разорвал его на клочки и швырнул на пол.
— Очень скоро они получат мой ответ, — разозлившись, крикнул он.
— Эту петицию они подписали все как один, — заметил Софхатеп. — До этого они подавали петиции каждый за себя.
— Я нанесу им удар всем вместе, так что пусть они выражают свое недовольство так, как им подсказывает их невежество.
Однако события развивались стремительно. Губернатор Фив сообщал первому министру, что Хнумхотеп побывал в его провинции и удостоился бурной встречи простого народа, а также жрецов и жриц Амона. Простой народ громко выкрикивал его имя и требовал сохранить и защитить права богов. Кое-кто шел еще дальше и, рыдая, кричал: «Позор, богатство Амона швыряют к ногам танцовщицы!»
Первый министр сильно расстроился, однако уже не впервые чувство преданности отступило перед желанием действовать, и он тактично сообщил своему повелителю об этой новости. Как обычно, фараон разгневался и с сожалением сказал:
— Губернатор Фив наблюдает и слушает, но не способен ничего сделать.
— Мой повелитель, он располагает лишь силами полиции, — удрученно заметил Софхатеп. — Что они могут поделать со столь великим множеством людей.
— У меня не осталось иного выбора, как ждать, — с раздражением заявил фараон. — Воистину, видит бог, моя гордость кровоточит.
Зловещее облако повисло над славным городом Абу, оно просочилось в высокие дворцы и залы Дома правительства. Царица Нитокрис не покидала своих покоев, она стала заложницей собственного заточения и одиночества, страдала от разбитого сердца, раненой гордости и грустными глазами следила за развитием событий. Софхатеп встречал все эти новости с тяжелым сердцем и с печалью говорил молчаливому и несчастному Таху:
— Ты когда-нибудь видел, чтобы в Египте вспыхнул столь злой бунт? Как это досадно.
Счастье фараона сменилось гневом и яростью. Он не ведал покоя до тех пор, пока не оказывался в объятиях женщины, которой отдал свою душу. Радопис знала, что терзает его. Она заигрывала с ним, успокаивала его и шептала ему на ухо: «Потерпи немного», — он тогда вздыхал и с горечью отвечал: «Да, до тех пор, пока победа не окажется на моей стороне».
Однако положение ухудшалось. Хнумхотеп все чаще наведывался в провинции. Где бы он ни появился, везде его встречали толпы радостных людей, а его имя звучало на устах по всей стране. Многие губернаторы серьезно встревожились, ибо все это стало тяжким испытанием их преданности фараону. Губернаторы Амбуса, Фармунтуса, Латополиса и Фив собрались вместе, чтобы посоветоваться. Они решили встретиться с фараоном, направились в Абу и истребовали у него аудиенции.
Фараон принял их официально в присутствии Софхатепа. Губернатор Фив приблизился к фараону, приветствовал его, напомнив о своей покорности и непоколебимой верности, и сказал:
— О Богоподобный, истинная преданность бесполезна, если хранится лишь в сердце. Она должна сочетаться со здравым советом, добрыми делами и жертвами, если того потребуют обстоятельства. Мы оказались в ситуации, когда честность может навлечь на нас недовольство, но мы больше не можем заглушить тревогу в наших душах. Поэтому мы обязаны говорить правду.
Фараон молчал некоторое время, затем сказал губернатору:
— Говори, губернатор. Я слушаю тебя.
Губернатор храбро продолжил:
— Повелитель, жрецы разгневаны. Подобно заразной болезни, этот гнев расползается среди людей, которые утром и вечером внимают их речам. Именно по этой причине все пришли к единому мнению, что необходимо вернуть собственность владельцам.
Лицо фараона загорелось яростью.
— Подобает ли фараону уступать воле народа? — гневно спросил он.

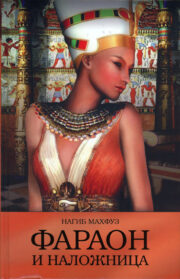
"Фараон и наложница" отзывы
Отзывы читателей о книге "Фараон и наложница". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Фараон и наложница" друзьям в соцсетях.