Этот рассказ Феодора усилием воли заставила себя слушать спокойно. Но сколько же неожиданных, сладостных чувств вспыхнуло в ее душе, пока молодой человек говорил. Этот юноша был ее сын… Родной сын!.. Ее кровь и плоть. И он был прекрасен!.. О да, прекрасен!.. И он любил ее, как любил своего отца, на которого походил не только лицом, но даже голосом…
При звуке этого голоса Феодора снова стала двадцатилетней. И он ничего не говорил… И ничего не скажет, что могло бы повредить ей. О нет! Подобно своему отцу, он был умен.
У нее был сын! С сыном женщина, будь она хоть императрицей, не одна. У нее есть защитник… А если император не умрет?.. Но почему он должен умереть? Его жизнь вне опасности… он узнает…
Машинально она протянула руку сыну… и снова отняла ее… Он все еще стоял на коленях.
— Садись, — сказала она ему.
Он медленно сел. Ясно, что движение матери не ускользнуло от него, и он все еще надеялся на что-то.
— Итак, — спросила она, — только в минуту смерти отец открыл тебе…
— Да, в минуту смерти!..
— В каких выражениях он передал вам эту тайну?
— Он говорил мне, что имел счастье любить вас и быть любимым вами… Тогда вы были дитем народа, как и он. Что вы ушли из своего семейства… но…
— Сами или по совету отца вы пришли ко мне?
— По совету моего отца и по своему желанию. У меня там не было никого больше, кого бы я любил…
— Что вы делали в Порпе?
— Отец был управителем богатого купца, я — секретарем.
— Долго вы жили в Сирии?
— Двадцать лет.
— Но у вашего отца была родственница… тетка?..
— Флавия. Да. Она воспитала меня и умерла девять лет назад…
— Она!.. И она никогда об этом не говорила вам?..
— Никогда. Когда я спрашивал о моем отечестве и моей матери, она говорила мне — то же самое говорил и мой отец, — что я из Битинии и что мать моя умерла, родив меня.
Феодора хотела продолжать свои вопросы, когда постучались в дверь комнаты, в которой она говорила со своим сыном. У императрицы все было заранее обусловлено, по стуку она узнала, кто стучался. Это был один из комнатных слуг императора, Бобрикс, которому она поручала во всякое время и при всех обстоятельствах являться к ней с известием, требует ли ее муж или просто желает видеть.
— Войди, — крикнула она.
Бобрикс вошел.
Император, по его словам, страдал сильнее, выйдя из своего беспамятства, и он произнес имя императрицы.
— Достаточно, — сказала Феодора, — я следую за тобой, Бобрикс.
И, рассеянно обратившись к Иоанну, сказала:
— До свидания!
Потом она быстро удалилась. Юстиниан на самом деле страдал, но его болезнь не была опасной. Он просто обожрался. Только перед рассветом Феодора вернулась в свои апартаменты. А ее сын? Она вошла в комнату, в которой она его оставила, но его там не было; она искала в других комнатах… нигде… никого!.. Вдруг какой-то бледный намек, какое-то сомнение оледенило ее ум…
Направясь к маленькой двери, скрытой в филенках, она спустилась на несколько ступеней и вошла в комнату Андрамитиса.
Он спал сном праведника. Она бросилась к нему.
— Этот юноша… араб, которого привели ко мне?..
Негр устремил на Феодору сонный взгляд.
— Ну! — продолжала она. — Этот юноша? Где он? Говори! Да говори же! Где он!
— Он там, — забормотал евнух, — где должен быть. Вы ушли. Я спросил его. Он мне сказал, что, оставляя его, вы ему сказали: «До свидания». Я проводил его в красную дверь…
Десница Божья! Господу не угодно было, чтобы эта женщина, которая в двадцать лет не сумела быть матерью, испытала бы это счастье в пятьдесят. А может, в самом деле испытала? Из уважения к женщине и к человечности мы желали бы так думать. И как доказательство расскажем о последнем дне ее жизни.
Это было в 565 году, когда сначала Феодора, а потом Юстиниан — она в апреле, он в июле — покинули этот мир. Хотя император был гораздо старше ее, ему было восемьдесят четыре года, Юстиниан не переставал окружать заботами и попечением ту, которая разделяла с ним трон, славу и преступления. Целый месяц, пока императрица болела, каждый день в полдень он садился у ее постели и покидал свое место лишь в полночь. Роковая минута приближалась. Доктора считали, что Феодоре, пожираемой раком желудка, осталось жить сутки.
Был вечер. Освободившись на несколько минут от страданий, она лежала неподвижно и безмолвно.
— Вам что-нибудь нужно, мой друг? — спросил император.
Она собиралась ответить «нет», когда вошел Андрамитис. Тоже постаревший, но по-прежнему преданный своей госпоже. Увидев своего демона, Феодора как-то странно улыбнулась и вместо «нет» вдруг сказала, обратившись к супругу:
— Да. Дайте мне вон тот кинжал, что лежит на столе.
Кинжал с золотой рукоятью был подарком полководца Нарцисса, преемника Велисария. Юстиниан поспешил исполнить просьбу Феодоры и подал ей кинжал. В этот момент она сказала мягко:
— Андрамитис, поищи на тигровой шкуре, возле постели, мой изумрудный перстень, который я только что уронила.
Андрамитис подошел поближе и, чтобы удобней было искать, наклонился над тигровой шкурой. Феодора приподнялась на своем ложе и всадила кинжал по самую рукоятку негру между плеч.
Он упал бездыханным. Юстиниан вскрикнул:
— Боже мой! Зачем ты убила этого невольника, моя дорогая?
— Он обворовывал меня, — холодно ответила Феодора, снова опускаясь на подушки.
Она солгала. Андрамитис ничего у нее не крал, она убила его потому, что и спустя двадцать три года не простила ему, что он вывел ее сына через красную дверь…
На другой день, 17 апреля 565 года, императрица Феодора скончалась.
ЧИАНГ-ГОА
(Бутон розы)
Все подробности этой истории заимствованы нами из самых достоверных источников. Мы получили их не от самой героини — нам так и не удалось воочию увидеть китаянку Чианг-Гоа, — но от других наших героев.
Позволив напечатать эту историю, одно из главных действующих лиц просило не упоминать его настоящего имени. Лет пять тому назад он был любовником проститутки Чианг-Гоа, и любовник этот — французский пейзажист. Он был пейзажист в поэтическом стиле, прославленном Клодом Лоренем, меньше заботившимся о композиции, чем о верности природе.
Он повидал Европу, и ему давно уже хотелось посмотреть Азию. Но путешествие требует больших средств. В Индию отправляются не по железной дороге; чтоб переплыть океан, нужны деньги, так же как нужны они для того, чтобы свободно себя чувствовать среди аборигенов.
Эдуард Данглад хорошо понимал это, и так как состояние не дозволяло ему привести в исполнение свои замыслы, то он поджидал случая.
Один из его старинных товарищей, граф д’Ассеньяк, страшно богатый и также жаждавший постранствовать по свету, предложил ему оплатить все расходы, но художник был горд: он отказался.
— Все эти твои нежности даже странны и смешны, — сказал ему д’Ассеньяк. — У меня триста тысяч ливров дохода, и я без всякого для себя стеснения предложил тебе удовольствие, в котором и сам приму участие.
— Которое из-за меня будет стоить тебе полсотни тысяч франков. Спасибо! Ты можешь предлагать, я не принимаю.
— Полсотни тысяч!.. Ты преувеличиваешь!..
— Вовсе нет! Чтобы видеть все, нужно платить, и платить дорого; полагаю, ты же не приедешь из Китая с фуляром за три франка или с фунтом чаю.
— Конечно, нет… Мы купим там хороших материй, мебели… оружия… Да позволь же дать тебе взаймы эти пятьдесят тысяч франков.
— Я боюсь долга.
— Ты мне заплатишь картинами.
— Я дурно работаю, если получаю вперед.
— Ты невыносим! Из-за тебя я принужден не отправляться туда, куда мне хочется ехать.
— Как из-за меня? Я тебе не мешаю хоть завтра отправиться на Луну.
— Да ведь знаешь же ты, что без тебя на Луне я соскучусь.
Непредвиденный случай снял все трудности.
У Данглада где-то в Германии был старик дядя, которого он видел раза два за всю жизнь и который недавно кончил апоплексическим ударом, оставив ему в наследство триста тысяч франков.
Выйдя от нотариуса, который сообщил эту счастливую новость, Данглад бросился к д’Ассеньяку сказать, чтобы тот готовился в дорогу.
Через неделю приятели были по дороге в Ливан — к первой их станции на земле Азии.
В самом деле, странствовать по свету, должно быть, очень приятно. Те два года, которые Эдуард Данглад провел в Аравии, Персии, России, Индии, Китае, показались ему двумя днями, а сколько приключений, сколько любопытных приключений пришлось на его долю в эти два года. Но нас в настоящее время занимает одно только из этих приключений, а потому мы оставляем вместе с нашими путешественниками берега Вампу в Шанхае и переносимся вместе с ними в Иеддо (старое название столицы Японии — Токио), в Японию.
Данглад познакомился со знаменитой китайской куртизанкой Чианг-Гоа не в Китае, ибо в Китае нет куртизанок в том несколько либеральном смысле, который придается этому слову во Франции; на цветных лодках, их постоянном месте пребывания, встречаются только самые ужасные создания, от которых с отвращением бежит европеец.
Это было в Японии.
Как печален и грязен китайский город Шанхай, так весел и чист японский город Иеддо.
Под руководством английского туриста сэра Гунчтона, которого они встретили в Пекине и который знал Иеддо как свои пять пальцев, побывав в нем уже раза три, Данглад и д’Ассеньяк остановились в одном из лучших кварталов, в доме, построенном между французской и голландской миссиями. Отдохнув несколько часов от усталости после восьмидневного переезда, они уселись в паланкин, который несли четверо носильщиков и сопровождала стража Тайкуна.
Они остановились у дверей чайного дома (род кофейной), чтобы посмотреть на двух женщин, танцевавших под звуки инструмента вроде мандолины, когда к ним подъехал верхом сэр Гунчтон.
— Господа, что вы тут делаете? — смеясь, вскричал англичанин.
— Вы видите, — тем же тоном ответил Эдуард Данглад, готовясь набросать эскиз одной из музыкантш, которая, продолжая играть на своем инструменте, что-то мяукала.
— Но, — сказал сэр Гунчтон, наклоняясь к художнику, — останавливаться перед подобными домами неприлично.
— Ба!..
— Без сомнения. Посмотрите на ваших проводников! Только низший класс посещает чайные дома.
— Почему? — спросил д’Ассеньяк. — Разве чай не хорош здесь?
— Нет, потому что эти места служат обыкновенно местами свиданий для бродячих куртизанок.
— Ай да славно! — весело заметил граф. — Но отчего же не посмотреть хоть мимоходом на этих бродячих проституток, если они красивы собой… А эти танцовщицы и певицы…
— Нет, они довольствуются теми грошами, которые приобретают с помощью горла и ног… Но, господа, в Иеддо есть получше этих… И если вы согласны на нынешний день взять меня вашим гидом-чичероне, то, пообедав у одного моего приятеля Нагаи Чинаноно…
— А кто он такой, — спросил Данглад, — ваш приятель Нага… Нага..?
— Нагаи Чинаноно. Богатый здешний купец, говорящий по-английски не хуже, чем я или вы. Он пробыл два года в Англии. Очень добрый и учтивый господин. Он будет в восхищении от посещения двух знаменитых французов.
— Знаменитых?..
— В Японии все иностранцы необыкновенно знамениты. К тому же…
— Короче говоря, — перебил д’Ассеньяк, — после обеда у вашего друга вы куда нас поведете?
— Я вам это скажу за столом.
— Право, — заметил Данглад, пожимая плечами, — это вовсе не трудно угадать, и я удивлюсь, Людовик, твоей просьбе о лишних объяснениях. Сэр Гунчтон молод, сэр Гунчтон часто бывал в этой стране, и ему известны все развлечения, которые можно получить здесь. Но, что касается меня, милый чичероне, я должен сказать, что к некоторым удовольствиям я не чувствую никакого влечения. Продажная Венера, где бы ни царила она, — в Европе или в Азии, в Париже или в Иеддо, — не возбуждая во мне совершенного негодования, не внушает в то же время ни малейшего желания.
— Пусть так, — возразил сэр Гунчтон, — но из простого любопытства, как художник, вы, надеюсь, не откажетесь увидеть самую знаменитую куртизанку в Японии китаянку Чианг-Гоа?!
— Нет! Нет! — воскликнул д’Ассеньяк. — Если не для самого себя, то для меня Данглад нанесет визит к Чианг-Гоа. Мы к вашим услугам, сэр Гунчтон. Ведите нас. Куда?
— Полагаю, сначала обедать, — сказал Данглад. — Это предложение мне больше нравится. Я чертовски голоден.
— Держу пари, — улыбаясь, сказал Гунчтон, — что обед понравится вам меньше, чем женщина.

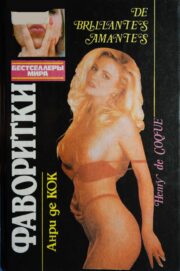
"Фаворитки" отзывы
Отзывы читателей о книге "Фаворитки". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Фаворитки" друзьям в соцсетях.