Это были уже и не образы, но и не трупы… Это было что-то среднее, что-то застывшее между криком и молчанием… Дома, захлопнув за собой дверь, я лег на диван прямо в одежде и ботинках и заснул. Какое же это было блаженство, опять увидеть во сне свою Фею…
Легкая, как призрак, ослепительная, как надежда, она уже ворожит не телом, а духом, пробуждая во мне самые лучшие чувства…
Как в детстве, я мечтаю и отдаю лишь ей свою тоску… и потому я верить не могу, что нам друг друга не найти… Небо как зеркало отражает нас с тобою для того, кто нас создал… Омывает свет рекою возведенный в тьму кристалл…
Фея стоит со мной рядом в белом подвенечном платье… Вокруг бегают и смеются дети…
– Открывайте двери, – стережет наше вхождение в храм дьякон.
Был ли ты счастлив в жизни земной?! Трогает меня ангельскими устами Фея, и я просыпаюсь, слыша, как кто-то стучится в дверь… С огорчением встаю и иду открывать дверь… На пороге стоит Федор Аристархович и еще какой-то странный мужчина в маленьких детских очках…
– Знакомься, – говорит Федя, – это писатель Петров Александр…
– Да ладно уж, – смущается Петров, прижимая к груди толстую папку, как я уже догадываюсь, со своей драгоценной писаниной.
Вскоре мы сидим за бутылочкой портвейна и слушаем, как Петров читает свою глубокомысленную прозу…
«Все просто, черт побери, – читает Петров, – кругом одни дураки и умники… Соловей… Заливается, подлец, словно спьяну… А я его по-кошачьи цап-царап и сгреб в кулачок…
Не пой сорванец, весна еще не пришла, не набухли еще почки на деревьях, а поэтому, соловьишка, пойдешь-ка ты ко мне в супец. Ну и съел, а что толку, и сам не наелся, и красивую птичку сгубил…
И задумался я тогда до слез… Схватил берданку и начал себе в рот пристраивать, а самому-то аж жуть…
Поджилки бедные трясутся, зуб на зуб не попадает…
Еле на курок нажал… На курок нажал, да зарядить позабыл… Вот чудной… Пока патроны искал, и жить захотелось!
В общем, раздумал всякую канитель с этим самоуничтожением разводить и решил тогда самому соловью памятник поставить…
Косточки, что на столе лежали, в мешочек сложил да за дом зашел, вырыл ямку, а мешочек туда, сверху крест дубовый смастерил да веночек лавровый и надпись мне по заказу золотом вывели… «Здесь покоится прекрасный наш певец, что попал к Петрову на супец». Конец!»
– Ну и как?! – спросил меня со смехом Федор Аристархович и свалился со стула. Тогда Петров обиделся и, видя, что я все время молчу, подвинулся ближе ко мне…
– Не обращайте на него внимания, он ничего не смыслит в серьезной прозе, – зашептал мне Петров на ухо, – а в вас я вижу очень понимающего человека… Ведь это же трагедия, что человек все съедает вокруг себя…
От усталости и сонной одури я кивал головой, с трудом пытаясь хоть что-то понять…
Они ушли, как растворились… Словно их и никогда здесь не было… Только пустая бутылка портвейна, обглоданные хребты селедок и крошки хлеба на столе вместе с пустой посудой напоминали мне о том. Что они все-таки были… Возможно, они придут еще и тогда мы создадим что-то вроде литературного общества или салона…
Петров будет читать свою прозу, я – стихи, а Федор Аристархович будет смеяться, а может, иногда даже плакать… А временами мы все будем мечтать о женщине… Только каждый о своей, а я – о Фее… я до сих пор никому не выдал ее существования в своем сердце…
Любовь нуждается в таинстве, как верующий в обряде… Когда-то я читал про любовь в книжках, и это волновало меня… И хотя я сам не испытывал ничего подобного, но все же я сам верил в это и словно предчувствовал, что это обязательно случиться со мною.
И вот случилось, но я нисколько не счастлив, даже наоборот, я самый, может быть, несчастный во всем мире человек… Ибо она с другим, и с таким, какого невозможно долго терпеть, если только из-за очень большой любви или из-за сострадания… Но для этого, наверное, надо быть самой святой мученицей…
Вечер медленно спускается ко мне в окно, и я, наскоро убрав на столе, выхожу из дома… Итак, я не ощущаю смысла в своей жизни, я брожу по городу и снова возвращаюсь назад. Я иду по черной пустоте, и мне очень часто в любой проходящей женщине видится Фея…
Кажется, весь мир развратен в силу всеобщей доступности, но это всего лишь самообман. Обольщение себя абстрактным телом… Конечно, я мог отдаться любой первой встречной и впасть в какой-нибудь опустошительный кризис, чтоб после проклясть весь мир и себя, но у меня есть Фея, и само ее существование, как и мысли о ней, уже спасают меня.
Я иду с ее образом как зачарованный странник… А люди бессильны меня убедить в простоте своих плотских желаний… Неистощимое любопытство полубезумных людей отталкивает меня в сторону бесконечных опытов с самим собой…
Возможно, совсем рядом плачет Таня, моя Фея, еще где-то страдают такие же пропащие люди… Одни сходят с ума, другие терпят и пресмыкаются, сливаясь со странной пустотой, окружающей их тревожные глаза…
Больные Сумрачного Царства – они своим или чужим позор… Позор как свойство наготы…
Позор сопричастный всякому творению как алкоголь – безумию, страх – раковым клеткам, волнение – болящему сердцу, тишина – смерти… Я устаю прислушиваться к себе и выискиваю все те же мучения…
Время – Семя – Бремя… Пенорожденный мальчик уже не боится стыда… И подлунная дева в костре ее ценной души… Смутные очертания Темдерякова рождаются из обломков моей упавшей наземь надежды… О, как он хочет тотчас схватить ее и тут же целиком затолкать в свое несчастное сознание…
– Эй, чокнутый, погрейся, – слышу я, наконец, его глуховатый, словно вырвавшийся откуда-то из-под земли голос. – Погрейся, – повторил Темдеряков, протягивая мне недопитую бутылку… Сейчас он мне мерещится, как в бреду… Увы, маразм человечества всесилен!
– Ну, не хочешь, так Бог с тобой, – отвернулся от меня Темдеряков и тут же забулькал опрокинутой в горло бутылкой, а после, занюхав рукавом выпитое, стал с каким-то полубезумным вниманием вглядываться в темноту наступающей ночи…
Тогда-то у меня было желание написать «Теорию пьянства»… Еще тогда я был уверен, что смог бы придать выпивающим людям самый метафизический характер… Но сейчас все выглядело совсем по другому.
Безобидность лакающих любое хмельное безумие когда-то мудрых существ исчезала прямо на глазах. Темдеряков стоял и качался из стороны в сторону, как маятник… Вроде он не жил, а только притворялся живущим.
– Ну, ладно, сосед, – еще раз покачнулся он и побрел дрожащим ногами домой… Полная и спокойная тишина в безлюдном дворе отдавала мне большую часть своего ночного мироздания, где все существовало как бы в прошлом, и где люди, все еще угнетенные собой, пытались защититься от собственных мыслей…
Мои же мысли вели меня в другой потусторонний мир, и я шел туда с радостью и без оглядки, в то время, как другие боязливо отшатывались и просили у Господа Бога прощения…
А я… Я был еще ни в чем не повинен…
Защищенный со всех сторон своими родителями, я еще не познал ни один грех этого прозябающего кое-как мира… Я только смотрел и спрашивал то сам себя, то других, а что это такое, а почему это так, а не иначе…
А поэтому моя очевидная безгрешность и давала мне силы глядеть в оскал пугающей всех смерти…
Поэтому больные, рыдавшие и умирающие у меня на руках, там, высоко в небесах, превращались в улетающих ангелов… и потом, что такое Смерть?!
Переход из одного в другое… Переплавление небесного луча в море испаряющейся влаги…
Где же существует мое «Я». И почему я хочу сразу быть везде… Не от Бога ли блаженные желания… Неожиданные крики застают меня врасплох… Я всегда узнавал голос моей Феи… Он так нервно и тонко дрожал, проходя через глубины моего подсознания, что даже сердце в этот же миг колотилось, как будто само стремилось вырвать из себя удивленье и презренье от этого ужасного мира…
Я опять хотел вбежать в их квартиру и прибить ужасного и мерзкого во всех своих бессмысленных явленьях… Стихийного как рок Темдерякова… Но опять меня что-то остановило, и я стоял, как мертвый истукан…
Пряча свои слезы в ночном небе… в звездах где таится Божий крест… И почему она там, если все это дерьмо повторяется каждый день и каждую ночь…
Лишь иногда в усталости затишье являет сон, похожий на привет… Привет как преходящий огнь комет и взмах рукой уже с того нам света…
Фея, ты полна до краев этой Вечности. Ты, как и я живешь и движешься во сне…
Помраченная мрачной темнотой зрачков пьяного Темдерякова, и быть может, где-то далеко в своих мыслях озаренная, милая, мной…
Жертва, осознающая себя жертвой, уже не жертва… Она выше любого заповеданного ей мрака…
Она уже несет на себе крест грядущего небытия, дабы здесь в полной беспростветности ненастья выйти вмиг из жертвенных одежд… Так люди отсутствующие на земле… мои далекие люди с жалостью взирают на меня с небес… А я молчу и в мыслях открываюсь Богу…
В своих раздумьях я все иду и иду на этот свет… Словно здесь, на земле, даже Фея не согреет меня, не спасет. Уныние… и еще одна тень полуживого рассудка.
Лишь ласковый Аристотель возвращает меня обратно к теплу и покою. Он мурлычет, словно поет…
И царапает руки, словно напоминает о себе… Его глаза закрыты, как у женщины в сладкой истоме… Которая расширяет и озвучивает все его звериное удовольствие. И только потом в темноте, поймав какую-нибудь мышь, он, возможно как и многие коты, чувствует себя героем.
И тогда в торжественной тишине он схватит эту мышь зубами и как лакомый кусочек поднесет и положит возле дивана, чтобы мои как и его ноздри всю ночь волновал запах этих мышиных останков, в то время как само это невинное создание будет пищать уже совсем в иных мирах и, может быть, убегать уже от совсем иного зверя…
Кто их там знает?! Всю ночь я не сплю и листаю «Археологию» Джонса и пытаюсь понять, что он такого интересного нашел в пирамиде Хеопса…
Ну, допустим, он нашел там оружие, утварь и еще какую-нибудь там одинокую мумию. Ну, испытал еще благоговение перед этим призрачным, можно сказать – сказочным, прошлым. А что еще?! Неужели на ту же самую расшифровку древних иероглифов кому-то понадобились целые годы? А потом оказалось, что этот несчастный и бедный ученый потратил полжизни на то, чтобы прочитать на маленькой глиняной табличке: «Жизнь-дерьмо!»
Словно мы этого никогда не знали и не будем знать… И уже за одно это его надо боготворить! Ей Богу, глупо и смешно… А впрочем, все же мерзко и грустно… Грустно как гнусно, я уже замечаю, что не могу радоваться простым и привычным вещам, что где-то далеко, в глубине моего подсознания зарылась несчастная мечта о прекрасной Фее… И там я ее сторожу, никого до нее не допускаю, и от этого становлюсь все более озлобленным и мрачным, хотя она совсем рядом, в одном со мною дому и доступна только одному опустившемуся алкоголику… который ее бьет и насилует как какую-нибудь безмозглую тварь…
Слезы льют яд дум, в ночной тишине. «Археология» Джонса выпадает из рук… Аристотель возбужденно шевелит ушами в предчувствии близкой охоты, а я выключаю свет и медленно засыпаю. Завтра опять тяжелый день с ожиданием какого-то исхода, а пока в окне висит луна, а во мне царит одна опустошенность… Я нашел ее символ…
Мне подсказали его древние… Они начертили круг и поставили в нем точку – меня.
День на лекциях и семинарах пролетает, как птица, без следа.
Я уже с нетерпением жду своего ночного дежурства и с тайным страхом осознаю, что я нуждаюсь в чужом сострадании. Да, оно очень необходимо мне как противоядие от собственных мучений. Все сердце в тот же миг заполняется чужой болью и жалостью ко всем…
Чувства, близкие Божьим… Останки печальным словам… Однако ночь выдается на удивление тихая и спокойная.
Всю ночь я сплю и ничего не вижу… даже проснулся в первый раз на «скорой» с чувством вины и стыда от хорошего сна.
Следующий день также прошел быстро и незаметно. В курилке университета ко мне подошел Федор Аристархович и заговорщическим шепотом объявил мне, что меня собираются отчислять за академическую неуспеваемость.
Я знал, что он шутит, и поэтому его слова воспринял с легкой иронией. Он же, чувствуя, что его шутки на меня не действуют, что-то недовольно проворчал себе под нос и удалился шутить над другими студентами. Бедный старый мальчик.
Глупость от незнания как шутки от безделья, хотя никто на него не обижался. Все чувствовали его особое положение и часто тянулись к нему, как к самому старому, а значит, и опытному, за советом, даже профессора называли его только по имени и отчеству и всегда снисходительно улыбались, прощая ему любые неправильные ответы…
Кстати, Цнабель очень даже зауважал Федора Аристарховича, когда узнал, что он тоже, как и профессор, страдает подагрой. Иногда в перерыве между лекциями они отходили ото всех куда-нибудь в угол и с удовольствием шушукались между собой о самых подходящих способах лечения этого коварного недуга…

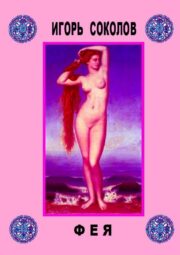
"Фея" отзывы
Отзывы читателей о книге "Фея". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Фея" друзьям в соцсетях.