Он поднялся.
— Ну что ж, если это все, я ухожу.
— Нет, не все! — побагровев, произнесла она. — Я знала, что все так будет, так и знала!
— Я тоже думаю, что знала, но зачем тогда, черт побери, было отнимать у меня время?
— Потому что я надеялась, что хоть раз в жизни ты проявишь хоть сколько-нибудь сочувствия! Хоть чуточку жалости к членам своей семьи! Хотя бы ради бедняжки Джейн!
— Пустые мечты, Луиза! Я понимаю, что отсутствие во мне сочувствия так удручает тебя. Но я не чувствую ни малейшей привязанности к твоей бедняжке Джейн хотя бы потому, что не знаю ее настолько, что даже и не узнаю, встреть я ее где-нибудь на улице… и я с удивлением узнаю, что Бакстеды являются членами моей семьи.
— А я не член твоей семьи?! — воскликнула она. — Ты забыл, что я твоя сестра?
— Нет, ты не давала мне возможности забыть об этом. О, не заводись снова, ты не представляешь себе, как неестественно выглядишь, когда впадаешь в истерику! Можешь утешать себя моими заверениями в том, что, если лорд Бакстед оставил бы тебя без гроша в кармане, я бы счел себя обязанным взвалить на себя такую обузу, — говорил он, насмешливо глядя на нее. — Да, я знаю, ты собираешься сказать, что еле сводишь концы с концами, но дело в том, что ты прекрасно обеспечена, моя дорогая Луиза, и мои чувства тебе ни к чему! Только не донимай меня болтовней о родственных чувствах! Их нет ни у тебя ко мне, ни у меня к тебе!
Не ожидая такой прямой атаки, она, запинаясь, проговорила:
— Как ты мог сказать такое? Когда я больше всех привязана к тебе!
— Не обманывай себя, сестрица: не ко мне, а к моему кошельку!
— Боже, ты несправедлив ко мне! Что касается того, как я обеспечена, то ты со своим безрассудным расточительством и не подозреваешь, что мне приходится отказывать себе во всем! Почему, ты думаешь, я переехала с Элбемарл-стрит, из нашего прекрасного дома, когда умер Бакстед, сюда, в это богом забытое место?
Он улыбнулся.
— Тем более что не было ни малейшей причины уезжать оттуда. Я думаю, это твоя страсть к расчетливости и экономии.
— Если ты имеешь в виду, что мне пришлось урезать свои расходы…
— Не пришлось, просто ты не можешь устоять перед соблазном на чем-нибудь сэкономить.
— С пятью детьми на руках, — завопила она, но пристальный взгляд через монокль остановил ее попытку развить эту тему.
— Ну что ж! — сказал он дружелюбно. — Полагаю, нам лучше расстаться, не так ли?
— Иногда, — произнесла леди Бакстед, едва сдерживая негодование, — мне кажется, что нет существа отвратительнее и бездушнее, чем ты! Не сомневаюсь, если бы Эндимион обратился к тебе за помощью, он бы ее получил непременно!
Эти горькие слова оказали некоторое влияние на маркиза, но спустя минуту он взял себя в руки и посоветовал сестре принять на ночь успокоительное.
— Ты глубоко заблуждаешься, Луиза, поверь мне! Уверяю тебя, что если даже Эндимион попросит меня устроить бал в его честь в моем доме, я и его поставлю на место!
— О, ты невыносим! — воскликнула она. — Ты прекрасно знаешь, что я не то имела в виду, я говорила о…
— Можешь не объяснять, — перебил он ее. — Нет необходимости, я всегда прекрасно знал, что ты имеешь в виду! Ты и Августа вбили себе в головы, что я испытываю отеческие чувства к Эндимиону…
— К этому… этому недоумку!
— Ты слишком сурова к нему, он просто болван!
— Ну да, все знают, что для тебя он просто воплощенное совершенство! — сердито вставила она, комкая в руках носовой платок.
Он машинально покачивал на длинном шнурке свой монокль, но это замечание заставило его поднести стекло к глазу, чтобы получше увидеть разъяренное лицо сестры.
— Как странно можно истолковать мои слова! — сказал он.
— Уж мне-то можешь не говорить! — леди Бакстед уже неслась во весь опор. — Чего бы ни пожелал твой драгоценный Эндимион, ты ему ни в чем не откажешь! В то время как твои сестры…
— Извини, что перебиваю тебя, Луиза, но это очень сомнительное утверждение. Ты ведь знаешь, я далеко не бескорыстен.
— А содержание, которое ты ему назначил! Что, скажешь, не так?
— Значит, вот что так вас задело! Какой-то бессвязный разговор! То ты обвиняешь меня в безответственном отношении к своей семье, то тут же упрекаешь за выполнение мною обязательств перед своим законным наследником!
— Перед этим болваном! — взорвалась она. — Если он станет главой семьи, я этого не вынесу!
— Ну, на этот счет не беспокойся, — посоветовал он. — Скорее всего, тебе и не придется это выносить, так как, возможно, ты отмучаешься еще при мне. Я могу протянуть еще лет пять.
Леди Бакстед не нашлась что ответить и расплакалась, упрекая между рыданиями своего братца в жестокости. Но если она хотела таким образом смягчить его сердце, то совершила ошибку: среди многих вещей в этой жизни, которые наводили на него скуку, женские слезы были на первом месте. Не совсем убедительно выразив свое беспокойство словами, что, если бы он знал, что она не в духе, не стал бы обременять ее своим обществом, он поспешил откланяться.
Как только за маркизом закрылась дверь, рыдания прекратились, и, может быть, спокойствие вернулось бы к ней, не войди через несколько минут в комнату ее старший сын. Он пришел узнать, был ли у нее дядя и что он ответил на ее просьбу. Узнав, что Алверсток поступил как законченный эгоист, что, впрочем, и ожидалось, он помрачнел, но сказал, что не жалеет об этом, поскольку самому ему эта идея не очень нравилась.
Характер леди Бакстед нельзя было назвать золотым. Она была так же эгоистична, как ее брат, но только не так честна и не желала признавать свои недостатки. С тех пор как она убедила себя в том, что принесла жизнь в жертву своим бедным, осиротевшим детям, а с помощью такой нехитрой уловки, как при упоминании имен своих двух сыновей и трех дочерей награждать их самыми ласковыми эпитетами (но только не в разговорах с ними самими), убедила весь свет в том, что все ее помыслы связаны только с будущим ее отпрысков, в глазах общества леди Бакстед сумела прослыть самой преданной и любящей матерью.
Из всех детей Карлтон, о котором она всегда упоминала как о своем первенце, был ее любимцем. Он никогда не доставлял ей никакого беспокойства. Из тихого, флегматичного мальчика, который воспринимал свою матушку такой, какой она была, он вырос в приличного молодого человека, с глубоким чувством собственного достоинства и серьезным образом мыслей, что удерживало его от тех соблазнов, которым поддавался его более живой кузен Грегори, и совершенно не давало возможности понять, что находили привлекательного во всех этих похождениях и попойках Грегори и остальные его родственники. Его амбиции были весьма скромны, мыслил он неторопливо, все старательно обдумывая, совершенно не был тщеславен и даже гордился своей обычностью. Он не завидовал Джорджу, своему младшему брату, который был намного умнее его. Наоборот, он гордился Джорджем, считая его очень остроумным мальчиком, а когда он стал замечать, что такие горячие натуры, как Джордж, часто сбиваются с пути добродетели, он не стал делиться своими опасениями с матерью, как и своим решением самому смотреть за Джорджем в оба, когда тот закончил школу. Он никогда не полагался на мать, никогда не спорил с ней и даже своей сестре Джейн никогда не сказал ни слова с критикой в ее адрес.
Ему было двадцать четыре года, но так как до сих пор он ни разу не проявлял своего характера, для его матери было неприятным сюрпризом услышать от него, что он не понимает, почему, собственно, бал для Джейн должен состояться в доме дяди и за его же счет. Ее любви к нему сразу же значительно поубавилось, а поскольку она уже была раздражена, они могли очень быстро поссориться, если бы он благоразумно не ретировался.
Он был огорчен, узнав, что Джейн разделяет соображения матери по этому поводу, заявляя, что это отвратительно со стороны дяди Вернона не считаться с их интересами и быть таким скупым, что пожалеть несколько сотен фунтов.
— Я уверен, Джейн, — мрачно сказал ей Бакстед, — что у тебя достаточно гордости, чтобы не желать быть настолько обязанной дяде.
— Вздор! — рассердилась она. — Ради бога, почему же это я была бы ему обязана? В конце концов, это его долг!
Его верхняя губа казалась оттопыренной, что всегда случалось, если он чем-то был недоволен; он проговорил мрачно:
— Я понимаю твое разочарование, но думаю, что ты получишь гораздо больше удовольствия на балу, который пройдет здесь, в твоем собственном доме, чем на грандиозном рауте в Алверсток-хаузе, где больше половины гостей наверняка будут тебе даже незнакомы.
Его вторая сестра, Мария, нетерпеливо ждала, когда он закончит свой неторопливый монолог, чтобы спросить, зачем он несет такую чепуху.
— Сравнил тоже! Убогий бал здесь, куда нельзя пригласить больше пятидесяти человек, или же первый выход в Алверсток-хаузе! Ты с ума сошел! — заявила она его светлости. — Это будет жалкое зрелище, ты ведь знаешь маму! А вот если бы дядя устроил бал, только представь, как было бы все замечательно! Сотни гостей, и все — шишки первой величины! Омары, заливные и — и Шантильи, и сливки…
— …приглашенные на бал? — вставил Карлтон.
— И шампанское! — продолжила Джейн, не обращая внимания на его тяжеловесный юмор. — А я бы стояла наверху громадной лестницы рядом с мамой и дядей, в белом атласном платье, отделанном розовыми бутонами, в розовой шали и с венком в волосах!
От этой чудесной картины у нее на глаза навернулись слезы, но которая, однако, не вызвала энтузиазма ни у Марии, ни у Карлтона: Мария возразила, что с ее веснушками она бы выглядела в таком наряде смешно, а Карлтон удивился, как его сестры могут столько времени думать о подобных пустяках. На это ему никто не нашел нужным отвечать, но когда он добавил, что рад тому, что Алверсток отказался давать бал, они раскричались даже громче своей матушки. Так что он удалился, оставив своих сестер осуждать его занудность, ссориться из-за розовых бутонов и газовых шалей и соглашаться с тем, что, наверное, мама была виновата в том, что дядя поступил так гадко, потому что она наверняка чем-нибудь рассердила его, в чем девицы не сомневались.
Глава 2
Когда маркиз вошел в свой дом, первое, на что упал его взгляд, было письмо, лежавшее на одном из столиков из позолоченной бронзы, инкрустированной слоновой костью. Подписано оно было крупными размашистыми буквами, а бледно-голубая печать не сломана; значит, мистер Тревор, замечательный секретарь маркиза, с первого взгляда определил, что письмо было от одной из ветреных красавиц, временно занимавших неустойчивое внимание его светлости. Бросив шляпу, перчатки и накидку, так восхитившую мисс Китти Бакстед, на руки лакею, он подхватил письмо и пошел с ним в библиотеку. Когда он сломал печать и развернул сложенный лист, запах серой амбры достиг его придирчивого носа. Он поморщился и, держа письмо на вытянутой руке, стал доставать монокль. И, пробежав его глазами, бросил в огонь. Фанни, решил он, становится невыносимо скучной. Прелестное создание, но, как все примитивные существа, ненасытно. Теперь она требовала пару бежевых лошадей для своего ландо; на прошлой неделе это было бриллиантовое ожерелье. Он послал его, и это должно было быть прощальным подарком.
Запах приторных духов, которыми она опрыскала письмо, казалось, остался на пальцах у маркиза, и он тщательно их вытирал, когда в комнату вошел Чарльз Тревор. Заметив удивление в глазах юноши, он очень добродушно объяснил ему, что не выносит запаха серой амбры.
Мистер Тревор воздержался от комментариев, но его лицо выражало такое понимание, что Алверсток сказал:
— Вот именно! Я знаю, о чем вы думаете, Чарльз, и вы абсолютно правы: пришло время распрощаться с прелестной Фанни. — Он вздохнул. — Милая крошка, но насколько ветреная, настолько же и алчная.
Мистер Тревор опять воздержался от комментариев. Хотя и с трудом, так как его мысли по этому деликатному поводу были весьма противоречивы. С моральной точки зрения он мог только осуждать подобный образ жизни своего хозяина; юноша, проникнутый всякими рыцарскими идеалами, он пожалел бы прелестную Фанни, но, принимая во внимание щедрость его сиятельства, с которой он одаривал эту особу, Тревор должен был признать, что ей не на что было жаловаться.
Чарльз Тревор, один из младших сыновей в многочисленной семье священника, получил свое теперешнее место благодаря тому обстоятельству, что его отец, принявший сан, был назначен духовным наставником отца нынешнего маркиза. Наградой за это было не только достаточно обеспеченное существование: его благородный ученик искренне привязался к нему, стал крестным отцом его старшего сына, а своему собственному сыну завещал оказывать преподобному Лоренсу Тревору всяческое покровительство.

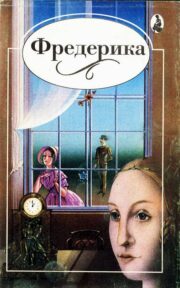
"Фредерика" отзывы
Отзывы читателей о книге "Фредерика". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Фредерика" друзьям в соцсетях.