— Я нашла фотографию. Я думаю, это она звонила.
— Да кто она, Оль? Какой ты травки накурилась?
— Да брось ты, прекрасно знаешь, что не курю. Я нашла фотографию девушки, которая звонила.
— Откуда ты знаешь, что это она? Там что — написано?
— Нет. Но она похожа. На мать очень похожа. И мне кажется, что и голос той девушки тоже был похож на мамин, интонациями. Теперь понимаешь?
— Нет.
— Значит, ты тупой, Димыч, — выдохнула Ольга.
Он не обиделся. Он привык к ее резковатым комментариям и не обращал на них внимания.
— Может, и тупой. И точно спать хочу. Чего и тебе желаю.
— Ты же сам говорил, — продолжала она заговорщически шептать.
— Что?
— Ну, про двойную жизнь, про второе «Я».
— Панова, я не знаю, какие тараканы у тебя в голове, но тебе надо лечиться. И выспаться. У тебя крыша совсем поехала. Ты притягиваешь за уши обстоятельства и пытаешься сделать сумасшедшие выводы. Вот ведь делать больше нечего. Так скоро обнаружишь, что ты — инопланетянка.
— Ладно, Димка. Иди храпеть.
— А ты?
— И я. Если…
Она замолчала, прислушалась к звуку поворачиваемого ключа в двери.
— Кажется, мама пришла. Ну пока, до завтра!
Она бросила трубку и схватила фотографию со стола. Мама вошла в спальню и удивленно застыла на месте. В такой час Ольга обычно спала, а не сидела в ее спальне, у тумбочки, зажимая что-то в руке за спиной.
— Ты что это?
— Привет. Мама.
— Привет. Случилось что?
— У меня — нет. А у тебя?
— И у меня — нет.
Мать говорила медленно, оглядывая обстановку вокруг. Цепкий глаз приметил чуть выдвинутый ящик трюмо. Взбудораженный вид Оли. Горящий взгляд.
— Ты что-то потеряла?
— Не знаю. Ты мне скажи.
— Оля, я устала, уже поздно, и я не понимаю, чего ты от меня хочешь.
Мать выглядела раздраженной и слегка захмелевшей, даже щеки разрумянились. Обычно она не пила на работе.
— Кто тебе звонил сегодня утром?
— А мне откуда знать? Спросила бы, если так интересно.
— Она не сказала. И она звонила не первый раз.
— А это ты с чего взяла?
Мать выглядела напуганной. Самообладание не спасало ее. И чем тревожнее становились глаза матери, тем больше распалялась Ольга и начинала верить в свои самые невероятные домыслы.
— Я уверена. Она звонила много раз. И у нее, мама, у нее — твой голос!
— Да что за чушь ты несешь!
— А что ты кричишь? Чего ты боишься?
Они стояли друг против друга, мать и дочь, одинакового роста, с одинаковым ореховым цветом волос и удивительно похожим упрямым выражением лица. Обе накалены до предела. Казалось, вот-вот — и одна из них сорвется.
— Оля, успокойся! С чего ты так завелась?
— Кто это?
Ольга вытянула вперед руку с фотографией. И тут у матери сдали нервы. В совершенно нехарактерной для нее манере она резко опустилась на пол, побледнела и стала плакать. Это было настолько неожиданно и необычно для матери, что Ольга испугалась.
— Мама, мам!
Она присела рядом с ней на корточки и положила руку на плечо.
— Ну что ты? Ну, мам!
— Что случилось?
Обе женщины вздрогнули и подняли головы. В дверях спальни стоял заспанный отец и тревожно, щурясь от света, всматривался в своих девочек, как он их называл. Оля сглотнула слезы и покосилась на мать. Та закрыла заплаканное лицо руками.
— Марина?
Она махнула рукой, не поднимая головы. Иди, мол. Не вмешивайся.
Благодушный отец привык не вмешиваться в девчоночьи дела, но обычно рыдала дочь, а мать успокаивала, а тут было, похоже, наоборот.
— Ты не заболела?
Мать подняла опухшее лицо.
— Да нет, Гош, климакс проклятый, нервы ни к черту. Ты же знаешь. Ты иди, иди. Я сейчас успокоюсь.
— Выпей что-нибудь.
— Обязательно. Как раз собиралась. Оля, принеси мне пустырник, он на кухне.
Оля вышла, прикрыв за собой дверь. Она ощущала себя напуганной. Было совершенно очевидно, что она прикоснулась к какой-то страшной тайне, к чему-то, что молниеносно выбило маму из колеи. Ей жутко хотелось знать всю правду, но в то же время она чувствовала, что правда такова, что легче ей от нее не станет.
Через несколько минут вслед за ней на кухню вышла мама.
— Поговорим завтра. Я все тебе объясню.
— Ты не хочешь говорить при отце? — тихо спросила Ольга.
Мать кивнула. Бросила умоляющий взгляд и вернулась в спальню.
Ольга еще долго сидела на кухне, опустив голову на руки. Выпила пустырник, приготовленный для мамы. Потом пошла к себе в комнату и свалилась в кровать, не раздеваясь и даже не смыв косметику.
Когда она проснулась, солнце так ярко било в окна, что было ясно — она чудовищно проспала. Чертыхнувшись, она бросилась искать мобильник.
— Алло, Свет? Привет, это Панова. Я приболела что-то, предупреди администрацию, о'кей? У меня там одна встреча на сегодня, Димка знает подробности, позвони им и перенеси на завтра на то же время, ладно? Спасибо, Свет. До завтра.
Ну вот, с работой улажено. Это было самым легким шагом в сегодняшней программе. Она глянула в зеркало — оттуда на нее смотрело заспанное растерянное лицо с черными разводами туши под глазами и растрепанными волосами. Ольга приняла душ и немного взбодрилась. Не успела она выйти из душа, как позвонил Димыч, встревоженный ее внезапной болезнью. Ольга не стала ничего объяснять, да и объяснять было пока нечего.
Мама ждала ее на кухне. Отец ушел на работу, и мать сидела с кружкой остывшего кофе и неотрывно смотрела в окно. Перед ней на столе лежала та самая фотография.
— Привет, мам.
— Привет.
Ольга, не произнеся больше ни слова, насыпала кофе в планшер на двоих и залила кипятком. Выждав пару минут, нажала на пресс и разлила кофе в две чашки. Одну поставила перед матерью. Та следила за каждым ее движением, спокойно, не выказывая ни малейших признаков желания начать разговор первой. Оля отхлебнула горячего кофе и уставилась на фотографию.
— Что происходит, мам? Я не понимаю.
— А почему у тебя такой холодный тон, Оль? Я, кстати, от тебя жду объяснения, что ты так завелась?
— Еще вчера ты таких вопросов не задавала.
— Как раз задавала. Просто ты слушаешь только себя. Никогда не думала, что моя дочь будет разговаривать со мной в таком тоне.
Ольга открыла упаковку вишневого йогурта и медленно стала зачерпывать маленькой ложкой густую розовую массу. Мамин излюбленный прием. Нападать и давить на совесть, чтобы на корню пресечь все попытки опасного спора. Она избегала конфликтов. Они с мамой в общем-то жили дружно. Были стычки по мелочам, но до скандалов никогда не доходило. Мать уважала личную территорию Ольги, поддерживала ее попытки самостоятельных решений, не сильно вникала в ее личную жизнь, да и не особо вмешивалась, когда оказывалась посвященной. Вполне дружеские отношения. Ольге иногда смутно казалось, что в них недостает тепла и искренности, но, с другой стороны, рассуждала она, в других семьях постоянные скандалы и нервотрепки, а у нее — спокойная жизнь. Видимо, у всего есть своя цена. Она не сомневалась, что мать любит ее, просто… Иногда хотелось, чтобы нейтральности в их отношениях было чуть меньше.
— Ладно, мам. Вчера ты сказала, что поговорим сегодня. Вот оно — сегодня.
— Да, вчера я пообещала поговорить. Но я все еще сомневаюсь — достаточно ли ты взрослая и созрела для того, чтобы выслушать и понять то, что я собиралась рассказать.
Ольга выронила ложку.
— Я? Мне двадцать восемь лет, мама! О чем ты говоришь?
— Ну, Оль, паспортные данные еще ничего не значат. Ты сейчас успокойся и пообещай меня выслушать. Не перебивай. Дай мне все спокойно рассказать. Мне и самой нелегко. Надо было мне это сделать раньше и не доводить до такого абсурда. Но что же делать, никак не могла собраться с духом.
Ольга пожала плечами, но заставила себя сесть и выслушать. И у нее хватило терпения. Вернее, у нее просто не было слов, чтобы перебивать.
— Ты права, девочка с фотографии и та, что звонила мне, — одна и та же девушка. Не знаю, как ты не догадалась, это непостижимо просто. Наверное, в такие моменты интуиция работает мощнее логики.
Ольга только приподняла брови.
— Так кто она?
— Она чуть старше тебя, на четыре года. И она моя дочь. У меня был роман в университете, бурный и краткосрочный. Папаша девочки укатил к себе в Африку еще до того, как родилась Рита. А я элементарно струсила. Струсила, что родители не поймут, струсила, что с темнокожей девочкой на руках никогда не выйду замуж, струсила, что обвинят в связи с иностранцем и во всех смертных грехах, тогда это было бы серьезным препятствием к карьере. При отцовской работе у меня не было никакого шанса найти поддержку в семье. Я рисковала остаться одна, без поддержки родителей, с ребенком на руках, без диплома, без будущего. Аборт делать было поздно, и я, всеми неправдами скрывая от окружающих свою беременность, перетягивала живот, пока скрывать стало уже невозможно. Но к тому времени наступили летние каникулы, и я спокойно родила. Тем немногим знакомым, кто знал о моей беременности, я сказала, что ребенок родился мертвым. Я отдала Риту. В Дом ребенка. Не думай, я не забыла о ней. Постоянно навещала. Говорила, что я ее дальняя родственница. Давала денег воспитателям. Потом договорилась с одной из них, что та возьмет ее к себе. Формально Рита оставалась в детском доме, но по вечерам уходила домой с той воспитательницей. А я постоянно передавала им деньги, что могла себе позволить. А потом я вышла замуж. За твоего отца. И стала появляться там очень редко. Родилась ты. Я не могла позволить, чтобы Гоша узнал о Рите. Он бы не понял меня. Я не хотела его терять, я люблю твоего отца, ты прекрасно это знаешь. Потом мы уехали из Москвы из-за работы Гоши, и я лишь изредка ездила туда и навещала ее. Когда Рите исполнилось десять лет, ее опекунша решила переехать в другой город и взяла ее с собой. Уж не знаю, как она там оформила документы, но они на какое-то время совершенно исчезли с горизонта. Я пыталась их найти. Но не смогла. А года два назад Рита мне позвонила. Сказала, что живет где-то далеко, за пределами России, но где — не захотела говорить. Сказала, что ее мать перед смертью дала мой номер телефона, уж как узнала — ума не приложу. Сказала, что благодарна мне за все и что…
Тут голос Марины Владимировны сорвался. Впервые за весь рассказ. Она встала и выпила холодной воды.
— Сказала, что ее мать рассказала, как много я для них сделала, и что она не забудет этого. Так и поговорили. С тех пор она иногда звонит мне. Не знаю, почему. Может, тоска на чужбине заела. Может, зов крови. Не знаю. А на меня ее звонки как удар колокола действуют. Я же знаю, что виновата перед ней, но изменить я ничего не могу. Моя сегодняшняя жизнь, ты, твой отец — все это слишком дорого для меня, чтобы рисковать. Прошлого уже не вернуть, не исправишь, надо смотреть вперед. Ты меня понимаешь?
Ольга молчала. Раскачивалась на стуле как загипнотизированная. Потом встрепенулась, поняв, что мать ждет ее ответа.
— Теперь ты ей все расскажешь? Теперь, когда я знаю, ты ей признаешься?
— Зачем? Травмировать ее лишний раз? Травмировать отца, он-то тут при чем? Это мои грехи, зачем портить ему жизнь? Чтобы он понял, что его всю жизнь обманывали? Разве тебе не жалко отца? А Рита… Что это изменит? Она может начать ненавидеть меня. Так она считает, что есть в жизни человек, который когда-то помогал ей по доброй воле. А если узнает правду, поймет, что все гораздо хуже. Зачем?
— То есть…
Ольга говорила, словно читала по слогам.
— То есть ты не станешь ничего говорить.
— Нет. Ты думаешь, есть смысл?
— При чем тут то, что я думаю?
— А зачем тогда я тебе все это рассказываю? Мне важно твое мнение.
Она серьезно? Ольга всматривалась в ее лицо. Нет, она это серьезно? Ей важно ее мнение? С каких пор? Когда ей вообще было по-настоящему важно чье-то мнение? Человек, всю жизнь проживший из расчета, как бы покомфортнее пойти на соглашение со своей совестью, человек, живший с таким грехом на сердце, теперь спрашивает ее мнение?
— Ничего тебе не важно, мама. Чепуха все это. Ты ждешь, что я скажу, что я понимаю? Ты просто хочешь получить индульгенцию от меня, да? Со спокойной совестью делать вид, что ничего не случилось, и продолжать жить, как жила? Но я не скажу. Потому что я не по-ни-ма-ю.
— Я не жду, что ты поймешь. Ты не сможешь, пока не окажешься в моем положении. Легко играть в героев, когда нечего терять. А когда есть что терять, приходится делать выбор.
— Неправда. Тогда… тогда, когда ты отказалась от нее, у тебя еще ничего не было. Кроме нее. Тебе было нечего терять.

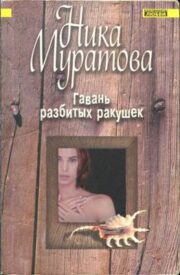
"Гавань разбитых ракушек" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гавань разбитых ракушек". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гавань разбитых ракушек" друзьям в соцсетях.