Молодой граф вздрогнул от ужаса.
— Нет, дядя! Не требуй от меня этого!
— Эдмунд, будь благоразумен! Не можешь же ты вечно сидеть взаперти у себя в комнате?
— Я покину ее еще сегодня. Через два часа я уезжаю.
— Ты уезжаешь? Куда?
— В город, к Освальду.
— К Освальду! — воскликнул Гейдек, вскакивая с места. — Ты с ума сошел?
— Неужели вы думаете, что я стану соучастником обмана? — неестественное спокойствие Эдмунда сменилось лихорадочной возбужденностью. — Неужели вы действительно могли думать, что я буду молчать и продолжать разыгрывать роль владельца майората, между тем как законный наследник, изгнанный из дома своих предков, будет вести жизнь, полную лишений? Вы могли так поступать, но я не могу! Как я перенесу весь этот ужас и вообще смогу ли его перенести, этого я не знаю. Но знаю одно: я должен ехать к Освальду, должен сказать ему, что его обманули, что он законный наследник Эттерсберга. Он должен знать все, а со мной пусть будет что будет!
Гейдек слушал его с ужасом. Он боялся всего, но такого оборота не предполагал. Если Эдмунду станет известно, что Освальд уже знает тайну или, по крайней мере, подозревает о ней, то объяснение между ними будет неизбежно, и тогда все пропало. Дядя лучше своего племянника понимал последствия такого несчастья и во что бы то ни стало решил предотвратить его.
— Ты забываешь, что здесь речь идет не только о тебе, — сказал он с ударением. — Подумал ли ты, против кого будет направлено твое признание?
Эдмунд вздрогнул, и горячая краска, только что заливавшая его лицо, сменилась мертвенной бледностью.
— Освальд всегда был врагом твоей матери, — продолжал Гейдек. — Он всегда ненавидел ее, и она никогда не заблуждалась в его чувстве. И ты хочешь признаться ему, пойти к нему с повинной, которая уничтожит твою мать? Он будет торжествовать, увидев ненавистную женщину уничтоженной, когда ее собственный сын…
— Дядя, замолчи! — с диким воплем перебил его Эдмунд. — Я не вынесу этого.
— Я не думал, что ты хоть один миг будешь выбирать между матерью и Освальдом, — мрачно произнес барон. — У тебя в данном случае вообще нет выбора; ты обязан покориться судьбе.
Эдмунд упал в кресло и закрыл лицо руками; тихий стон вырвался из его груди.
— Ты думаешь, мне легко было молчать и поддерживать то, что ты называешь обманом? — снова заговорил дядя после недолгого молчания. — Но, повторяю, у тебя нет другого выхода. Майорат передавать нельзя, ведь он принадлежит тебе как графу. Ты должен или остаться владельцем Эттерсберга, или открыть тайну всему миру, и тогда честь и Эттерсбергов, и Гейдеков погибнет навсегда. Другого выхода нет. То же самое я говорил своей сестре, когда она намеревалась все открыть своему мужу, и это же я говорю теперь тебе. Ты должен молчать! Хотя при этом будет принесено в жертву все будущее Освальда, мы не в силах ничего изменить. Честь рода выше, чем его право.
Барон говорил с ледяным спокойствием, но тем сильнее действовали его слова, и Эдмунд понимал, насколько они справедливы. Это была отчаянная борьба между чувством долга и необходимостью, которую так настойчиво ему навязывали. В глубине его души еще звучал вопрос Освальда: «А если бы ты вынужден был молчать ради чести семьи?». Он был, конечно, далек от мысли придавать этому вопросу более глубокий смысл или подозревать, что Освальд знает всю правду. Тот разговор произошел неожиданно и был вполне понятен. Тогда молодой граф был страшно возмущен тем, что нашелся человек, осмелившийся бросить упрек его матери в корыстных расчетах. Он гордо, презрительно заявил тогда, что не потерпит в своей жизни ни лжи, ни тени подозрения, что он смело и прямо должен смотреть в глаза всему свету. Это было всего два дня назад, а теперь…
Барон Гейдек не терял времени, чтобы довершить свою победу. Он решил использовать последнее и самое действенное средство.
— А теперь ступай к матери! — мягко промолвил он. — Ты не знаешь, в каком она состоянии со вчерашнего вечера. В смертельной тоске она ждет от тебя вести, ласкового слова из твоих уст. Ступай!
Эдмунд прошел с дядей несколько шагов, но у двери вдруг остановился.
— Не могу!
Гейдек, успевший уже открыть дверь, не обратил никакого внимания на его колебание и старался заставить племянника войти; но тот оказывал решительное сопротивление.
— Я не могу видеть мать. Не заставляй меня, дядя, не принуждай!.. Иначе тебе придется пережить вчерашнюю сцену! — Он вырвался из рук барона и позвонил. Вошел Эбергард. — Прикажите оседлать мою лошадь! — приказал Эдмунд.
— Да неужели же все мои слова были напрасны? — с отчаянием воскликнул Гейдек, когда Эбергард ушел. — Неужели же ты еще можешь думать об отъезде?
— Нет, я останусь, но чтобы не задохнуться, мне надо на волю, на воздух. Пусти меня, дядя!
— Сперва дай мне слово, что ты не сделаешь никакого безумства! Сейчас ты способен на все! Что мне сказать матери?
— Что угодно. Я только хочу часа два побыть на свежем воздухе. Может быть, после этого мне будет лучше!
С этими словами Эдмунд стремительно сбежал вниз.
Барон не пытался больше удерживать его. Он видел, что здесь не помогут ни уговоры, ни советы. Может быть, лучше дать буре стихнуть…
Проходил час за часом, уже наступил вечер, а молодой граф все не возвращался. Беспокойство в замке увеличивалось с каждой минутой. Барон Гейдек только упрекал себя за то, что отпустил племянника в таком состоянии, но не смел выказывать беспокойство, а вынужден был утешать сестру, терявшую от страха голову. Она ходила из комнаты в комнату, от окна к окну и вовсе не слушала барона, утешавшего ее. Она отлично знала, чего ей следовало бояться.
— Бесполезно, Констанция, рассылать гонцов, — сказал Гейдек, становясь рядом с ней у окна. — Мы даже приблизительно не знаем, в каком направлении уехал Эдмунд, а пересудов среди прислуги от этого будет больше. Наверное, он вдоволь наскакался и теперь, несомненно, возвращается домой, ведь уже смеркается.
— Или он все-таки уехал, — прошептала графиня, не отрывая взгляда от аллеи, ведущей к замку.
— Нет! — уверенно заявил Гейдек. — После того, как я объяснил ему, кому повредит его откровенность, этого бояться больше не следует. К Освальду он не поедет ни в коем случае…
Взглянув на графиню, он запнулся. Теперь и он начал бояться какого-нибудь безумного шага, от племянника, какого-нибудь решения, которое было бы еще хуже, чем признание Освальду.
Снова наступило горестное молчание. Вдруг графиня слегка вскрикнула и высунулась из окна. Гейдек, последовавший ее примеру, ничего не мог увидеть, но материнский глаз, несмотря на туман и сумерки, узнал сына, показавшегося в конце аллеи. Больше сдерживать себя графиня не могла; не думая о том, что прислуга считала ее еще больной, не спрашивая себя, как ее встретит сын, она бросилась к нему навстречу, с одним желанием только увидеть его.
Барон еле поспевал следом.
Внизу им еще пришлось ждать несколько минут, так как молодой граф, ускакавший из дома бешеным галопом, возвращался шагом. Его лошадь, покрытая пеной, дрожала всем телом. По-видимому, она едва держалась на ногах, но в таком же состоянии находился и всадник. Он, обычно с легкостью соскакивавший с лошади, с трудом слез с нее и, по-видимому, ему стоило немалых усилий подняться на несколько ступенек на крыльцо.
Графиня стояла на том же месте, где когда-то встречала его после возвращения из путешествия, когда он, сияя счастьем, бурно упал в ее объятия. Сегодня он даже не заметил матери.
Его платье насквозь промокло от дождя, мокрые волосы падали на лоб, и он медленно, не поднимая глаз, направился к лестнице.
— Эдмунд!
Восклицание графини было полно мольбы, но оборвалось на полуслове. Эдмунд поднял глаза и только теперь заметил мать. Больше она не сказала ни слова, но в ее глазах он прочитал всю смертельную муку, весь ужас последних часов, и, когда она простерла к нему руки, он не отшатнулся, а склонился к ней. Его губы едва коснулись ее лба и прошептали лишь ей одной понятные слова:
— Будь спокойна, мать! Ради тебя я попробую нести свой крест.
Глава 12
Освальд уже почти два месяца жил в столице и нашел там самый радушный прием. Среди тамошних ученых юристов адвокат Браун занимал одно из ведущих мест и во всех отношениях был полезен сыну своего покойного друга. Он вполне понимал молодого человека, решительно отказавшегося от удобств и блеска из-за того, что не мог принимать благодеяния из чужих рук и ради этого быть в полной зависимости.
Адвокат и его жена были бездетны, и молодой гость был принят ими почти как сын. Освальд со страстной энергией взялся за работу; предстоящий экзамен совершенно не оставлял ему времени думать о тех, кого он покинул в Эттерсберге; тем не менее его очень удивляло, что он не получал оттуда никаких известий. На его первое очень подробное письмо Эдмунд ответил ему, правда, всего несколько строк, написанных, по-видимому, с большой неохотой. Краткость своего ответа он объяснял еще незажившей раной. А на второе письмо и вообще не было ответа, хотя прошло уже несколько недель.
Освальд, конечно, знал, что, возвращая портрет, он разрывал с графиней все отношения и что она предпримет все меры к тому, чтобы разрушить связь, еще соединявшую его с ее сыном; но нельзя было предположить, чтобы Эдмунд так быстро поддался ее влиянию. Как ни легкомыслен был молодой граф, он всегда был верен своей дружбе с двоюродным братом и за несколько недель не мог забыть друга юности. Вероятно, было нечто другое, что мешало ему писать.
Было начало декабря. Освальд блестяще выдержал экзамен и тотчас же хотел начать свой новый жизненный путь; но Браун решительно воспротивился этому, потребовав, чтобы он хоть немного отдохнул от занятий и считал себя гостем в его доме. Освальд согласился, чувствуя, что в страстном стремлении к самостоятельности он слишком положился на свои силы и теперь нуждается в отдыхе.
Браун только что кончил свои дела, когда к нему в кабинет вошел Освальд с письмом в руках и положил его в почту, отправляемую обычно в это время слугой.
— Вы написали в Эттерсберг? — спросил его адвокат. Освальд ответил утвердительно; он извещал Эдмунда об удачно сданном экзамене. Должен же, наконец, последовать ответ на это письмо; такое продолжительное молчание начинало, действительно, беспокоить его.
— Я только что говорил о поместьях вашего двоюродного брата, — заметил адвокат. — Один из моих клиентов намеревается закупить там большую партию леса и приходил ко мне для обсуждения некоторых пунктов договора.
Освальд насторожился.
— Большую партию леса? Здесь какое-то недоразумение. В Эттерсберге в последние годы вырублено так много леса, что о дальнейших порубках не может быть и речи. Эдмунд знает это и никоим образом не мог согласиться на подобный шаг.
Адвокат пожал плечами.
— Однако могу вас уверить, что дело обстоит именно так. Правда, мой клиент ведет переговоры не с самим графом, а с его управляющим; но тот, должно быть, имеет доверенность.
— В недалеком будущем управляющий оставит свое место, — заметил Освальд. — Об этом ему было объявлено еще летом. Поэтому он уже не может иметь очень больших полномочий. Я думал, что Эдмунд, вступив во владение имуществом, отобрал у него доверенность; неужели он не сделал этого?
— Это было бы непростительной небрежностью со стороны молодого графа, — проговорил адвокат. — Безумие оставлять такого рода полномочия в руках служащего, которого он увольняет и которым недоволен. Неужели вы считаете это возможным?
Освальд промолчал; он знал невероятную беззаботность и равнодушие Эдмунда к своим делам и был убежден, что именно так и было в действительности.
— Продажная сумма очень значительна, — продолжал адвокат, который понял это молчание, — тем не менее цена, как признает и сам покупатель, очень низка, так как уплатить потребовали немедленно наличными.
— Боюсь, что здесь нечто худшее, чем простая нерадивость управляющего, — с беспокойством заметил Освальд. — До сих пор его считали честным, но теперь, когда он потерял место, он, может быть, поддался искушению мошенническим образом извлечь последнюю выгоду. Мой брат, конечно, не мог дать согласие на такое опустошение своих лесов; я убежден, что ему ничего неизвестно об этом деле.
— Весьма возможно. Но если доверенность не уничтожена, ему придется признать договор, заключенный от его имени. Вам следовало бы послать телеграмму; может быть, необходимо своевременно предупредить вашего брата.
— Конечно, если только телеграмма придет своевременно. Когда должен быть заключен договор?
— На этих днях… может быть, даже послезавтра.

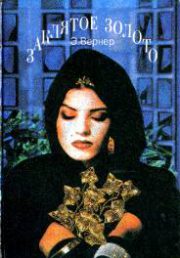
"Гонцы весны" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гонцы весны". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гонцы весны" друзьям в соцсетях.