Теперь сад в Коббзе выглядел совершенно иначе. Яблоки уже собрали, и ветви, освобожденные от тяжкой ноши, снова поднялись. Изгороди убрали, а овцы Мартина Холта теперь паслись на пастбище. Листья быстро опадали, светясь желтым на высокой траве.
Майклу казалось, что дни текут сквозь пальцы. Его месячный отпуск почти закончился. Ему хотелось улучить момент и просить время остановиться. Остановить тот миг, когда Бетони стояла под сливовым деревом, поднявшись на носочки и пытаясь дотянуться до шарика клейкого сока, повисшего на ветке, как янтарная бусинка, вся залитая солнцем.
Но что толку в том, чтобы просить время остановиться и вернуть прошлое? Все живущее должно взять то, что можно. Иначе жизнь немыслима. Была ли Бетони, поднявшая руки к небу, так уверена в себе, в том, что солнце идет по небу быстрее с каждым днем?
Почувствовав его рядом, она быстро обернулась, опустив руки. Она смеялась, и у него перехватило дыхание; она вспыхнула, и смех стих, когда она взглянула на Майкла и прочла болезненную мольбу в его глазах. Его руки касались ее лица, шеи, волос, она шагнула назад, отталкивая его. Глаза Майкла остались неподвижными. Она пыталась придумать, что бы сказать, но он заговорил первым.
— Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Немедленно. Сейчас же. Я думаю, что смогу получить специальное разрешение.
— Нет, Майкл. Слишком скоро. Я не знаю сама, хочу ли я этого.
— Я знаю, что чувствую сам. Я нисколько не сомневаюсь.
— Но возможно ли это? Мы знаем друг друга только восемнадцать дней! Может быть, потом, когда война закончится…
— Для меня может не быть потом.
— Ты не должен так говорить! Нельзя говорить такие вещи.
— Все равно это правда. Ты знаешь, какие там шансы выжить? Я уже живу в долг.
— Поэтому ты женишься на мне так скоро, чтобы уйти и оставить меня вдовой?
— Нет! Я знаю, это глупо, но я чувствую, что если у меня будет твоя любовь, она сохранит меня. Черт возьми, я знаю, что со мной ничего не случится!
Он знал, что играет ее чувствами, и когда увидел жалостное выражение ее лица, ему стало стыдно.
— Вот что с нами делает война! Превращает в презренных существ, умоляющих, требующих от людей любви. Извини, Бетони. Не суди меня слишком строго. Давай забудем об этом и попытаемся стать такими, как прежде.
Он взял ее за руку, и они пошли к дому, тихо беседуя о простых вещах. Но все это время он пытался угадать, что она чувствует по отношению к нему. Он смотрел на нее, как на свою защиту, слепо полагаясь на Бетони.
В каменном загоне позади дома Джесс Изард наливал воду в два деревянных бочонка. Он видел, как Бетони с Майклом шли через сад, но притворился, что ему что-то попало в глаз. Когда они вошли, он поднял бочонки и пошел в сыроварню, где его жена разливала мед.
— Капитан, кажется, втюрился в нашу Бетони. Как думаешь, чем это кончится?
— Может, да, а может, и нет. — Впервые у Бет не было твердого мнения. — Бетони такая девушка, которой трудно будет отдать кому-то руку и сердце.
Частенько, когда Том сидел в «Розе и короне», кто-нибудь приносил кусок дерева и просил его вырезать птицу, или рыбу, или зверя, а сегодня Тилли Престон, дочь хозяина паба, принесла старую кленовую пивную кружку, чтобы он вырезал на ней ее портрет.
Он возился с ним полчаса, работая только маленьким ножичком, но лицо на кружке было точной копией Тилли: широко расставленные глаза под красивыми бровями, маленький прямой нос с выдающимися ноздрями; красивые губки немного приоткрылись, обнажая зубы; завитки спускались на лоб.
Пока Том работал, он не слышал шума вокруг себя. Роджер, наблюдавший за проворными пальцами Тома, сожалел о том, что у него нет и половины той ловкости, с которой Том занимался резьбой.
— Ты сделал меня какой-то плоской, — жаловалась Тилли, держа кружку в руках. — И все же признаю, что ты заслужил пинту пива.
Она налила кружку до краев, и Том осушил ее одним махом.
— Вот это дельная мысль, Том, — сказал Билли Ратчет. — Разом, пока не опустеет!
— Это все, что ему причитается? — спросил Оливер Рай. — Он что же, не получит поцелуя и ты не обнимешь его?
— Давай же, Том! Тилли сговорчивая.
— Может, он боится, — предположил Хенри Таппер. — Может, он не знает, как это делается?
— Может, тебе нужно несколько указаний, Томми, малыш? От тех, у кого есть опыт в этом деле?
Том ничего не сказал. Он вытер губы тыльной стороной ладони. Лицо его пылало, и он не мог взглянуть на Тилли Престон. Но она сама наклонилась к нему и, когда Билли Ратчет подтолкнул Тома, обвила руками его шею. Ее маленькая грудь прижалась к нему, лицо медленно приблизилось, и губы мягко коснулись его губ.
Компания выразила свою поддержку. Стаканы застучали по столам, и вдруг наступила тишина. Девушка выпрыгнула из его объятий и повернулась к отцу, который стоял в дверях с мрачным видом.
Эмери Престон был хорошо сложенным мужчиной. Его грудь напоминала одну из его бочек. И когда он направился к хрупкому Тому, казалось, что это бульдог несется на гончую.
— Если я еще раз увижу, что ты дотронулся до моей дочери, я заставлю тебя пожалеть о том, что ты родился!
— Отец! — сказала Тилли, дергая его за руку. — Ты не должен так разговаривать с моими друзьями!
— Помолчи, а то твоя задница познакомится с моим ремнем! Ты должна ухаживать за Харри Иеллендом. Я не позволю тебе путаться с этим Маддоксом.
— Почему? Чем плох Том? — спросил Роджер, с жаром защищая брата.
— Я знал его отца! — сказал Эмери. — Он был самым гнусным скотом в Хантлипе и однажды ударил мою мать за то, что она не дала ему выпивки в кредит.
— Когда это было? Это предупреждение нашему Тому, который уже получил свою!
— Каков отец, таков и сын, так что я не стану пробовать, — сказал Эмери. — Имейте это в виду и держите его подальше от моей дочери!
— Не беспокойтесь! — сказал Роджер. — Мы будем держаться подальше от вас и от вашей дочери, и катитесь вы оба ко всем чертям! — И взяв Тома за руку, он повел его к дверям. — Пойдем, Том, выпьем еще где-нибудь. Есть немало мест и получше этого.
За дверями Том выдернул руку у Роджера и засунул кулаки в карманы. Он повернул за угол, и Роджер пошел следом.
— Не обращай внимания на Эмери Престона. Кого он волнует? Или его Тилли?
— Только не меня, — сказал Том. — Я на них не сержусь.
— Мутная водица, вот в чем штука.
— Но все-таки он сказал правду. Мой отец был не больно хорош. В этом можно не сомневаться. Он убил мать в Колоу Форде, а потом пошел и повесился на дереве.
— Что из этого? Это старая история, только и всего. Ты же не станешь переживать из-за нее?
— Я не стану, — сказал Том. — А вот других она очень волнует, не меня.
Иногда он пытался представить себе отца: пьяница, бросающийся в ярости на людей, отчаявшийся, предмет для общественного палача. Но он никак не мог нарисовать его себе. Это была просто история, и человек в этой истории был безликим, бестелесным.
Мог ли он представить себе мать? Да, наверное. Иногда он вспоминал белые руки, которые она протягивала к нему, теплые руки, нежно и благодарно касающиеся его тела. Но воспоминания, если это действительно были воспоминания, всегда ускользали, когда он пытался ухватиться за них, и оставалась только черная пустота.
— Пошли в Чепсворт, — сказал Роджер. — Выпьем в «Бражниках». У них там есть кегельбан.
В пабе на Лок-стрит на стене висел цветной плакат, изображавший собор в Лувейне после его захвата врагом. Это было личным впечатлением художника и изображало немецкую кавалерию, которая устраивала конюшню внутри церкви. Один солдат разбивал статую мадонны о стену. Другой разрывал священные облачения. Несколько других сжигали деревянные статуи, включая изображение Христа, благословляющего хлебы и рыбу, чтобы вскипятить котелок на треноге. Несколько бельгийцев, в основном пожилых мужчин и женщин, толпились у разбитых дверей, закрыв лица ладонями.
— Я пытался представить себе, что это Чепсвортский собор, и он лежит в руинах, и солдаты ломают все, что попадется.
— Ты ведь не религиозен, Том?
— Нет, но все равно это жестоко.
— А как же быть, когда убивают людей? Это куда как хуже, чем разбивать статуи.
— Конечно, — согласился Том. — Люди более важны, чем статуи.
Но он ненавидел саму мысль, что все эти резные фигурки бросали в костер только затем, чтобы вскипятить котелок для немецких солдат.
— Ты пошел и что сделал? — спросил Джесс. — Ты не сказал, что записался в армию!
— Да, — сказал Том, — все верно, записался добровольцем. Сегодня в три часа.
— А ты? — спросил Джесс, уставившись на Роджера. — Ты наверняка не сделал того же?
— Они не возьмут меня, не поверят, что мне восемнадцать.
— Господи Боже мой! — сказал дед. — И одноглазый бы увидел, что у тебя молоко на губах не обсохло.
— Они записали мою фамилию, — похвастался Роджер. — Когда будет нужно, они меня вызовут.
— Когда будет нужно, — сказал Джесс с облегчением. — Ну, тебе будет восемнадцать еще только через год. К тому времени война, конечно же, кончится.
— Хорошо бы! — согласился дед. — Эта проклятая штука слишком уж затянулась.
— Так, значит, Том должен идти? Просто не верится! — Джесс с сомнением посмотрел на жену. — Как ты думаешь, должны мы его отпускать или, может быть, ты собираешься решать сама, что ему делать?
— Мы не можем удерживать его, — сказала Бет. — Ему уже давно исполнилось восемнадцать, и он взрослый мужчина. Если бы все зависело от моего слова, эта война уже закончилась бы, так и не начавшись. — Она посмотрела на Тома, стоявшего напротив. — Когда ты должен отправиться в казарму?
— Сержант сказал, они пришлют повестку.
— Ты правильно сделал, что записался, — сказал дед. — Я только рад, что этого не сделал наш Вильям.
Том ушел проведать пони в стойле, и там его нашла Бетони, которая узнала новости от родителей.
— Почему ты пошел и записался вот так, не сказав никому ни слова?
— Я просто решил так, вот и все.
— Ты думаешь, легко быть солдатом?
— Не знаю, я не думал об этом.
— Ты, наверное, был выпивши, как всегда.
— Наверное, — он пожал плечами.
Как она ни старалась, Бетони так и не удалось сблизиться с ним. Он только отвечал на ее вопросы. Так было всегда, с самого начала, с тех пор, как он пришел в Коббз, когда она заставила его почувствовать себя изгоем и уйти в себя, подобно тому, как краб прячется в своем панцире. Казалось, ничто не могло изменить его теперь. Он никогда не поверит, что она просто заботилась о нем.
— Я не могу представить себе Тома солдатом.
— Кажется, ты переживаешь, — сказал Майкл, — а он ничем не отличается от других добровольцев.
— Том знал так мало счастья. Было бы жестоко, если бы его убили.
— Но разве он не был вполне счастлив в вашей семье?
— Но он не узнал радости, — сказала Бетони.
— Многим ли знакома радость?
— Думаю, немногим, да и то мимолетом.
Они гуляли в саду Кингз-Хилл-хауса. Бетони осталась на чай и выдержала допрос матери Майкла. Но мысли ее витали где-то далеко.
— Для таких людей, как Том, должны быть какие-то особенные радости, — сказала она, — хотя я и не знаю, какие именно.
— Ты, кажется, не замечаешь, как грубо он с тобой обращается все время.
— Потому что знаю, что я заслужила это.
— Ну, довольно! — возмутился Майкл. — Не может быть, чтобы ты относилась к нему так плохо.
— Ты не знаешь. Тебя там не было. Дети бывают очень жестоки.
— Это было очень давно.
— Все равно я чувствую себя виноватой.
— Я рад, что дело только в этом. А то я уже начал опасаться, что ты влюблена в него.
— Но я на самом деле люблю его! — сказала Бетони. — Я очень люблю его и молю Бога, чтобы мне удалось заставить его доверять мне. Он совершенно одинок в этом мире, и все же я не могу приблизиться к нему, я ничем не могу помочь ему. Да, я люблю его. Я действительно очень люблю его!
И вдруг она заметила выражение глаз Майкла.
— О нет! — сказала Бетони. — Это совсем не то! Совсем не та любовь. Как мне заставить тебя понять?
Она не могла видеть его столь несчастным, поэтому поднялась и поцеловала, обняв его голову руками.
— Ты не должен так смотреть, — сказала она. — У тебя нет повода быть таким печальным.
— Бетони…
— Да, да, я знаю.
— Ты что-нибудь чувствуешь ко мне?
— Конечно. Как ты можешь спрашивать?
— Ты чувствуешь то же, что и я?

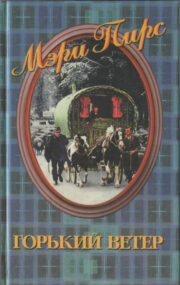
"Горький ветер" отзывы
Отзывы читателей о книге "Горький ветер". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Горький ветер" друзьям в соцсетях.