Здоровье его, по-видимому, совершенно восстановилось, и теперь уже не только моя материнская нежность помогала ему бороться с его несчастной страстью. Маркус и другие руководители нашего ордена с увлечением посвящали его в тайны нашего дела. Он находил тихую и грустную радость в этих широких планах, в дерзких мечтах, а главное — в долгих философских беседах. Правда, взгляды его не всегда совпадали со взглядами его благородных друзей, зато он чувствовал их духовную близость во всем, что касалось глубоких и пылких чувств — таких, как любовь к добру, к справедливости, к истине. Стремление к идеалу, которое так долго заглушали и подавляли в нем узкие и мелкие страхи его семьи, нашло наконец благодатную почву для развития, и здесь, встречая то поддержку, то откровенные и доброжелательные возражения со стороны окружавших его людей, он обрел ту живительную атмосферу, в которой мог дышать и действовать, несмотря на снедавшую его тайную печаль. Альберт — человек глубокого метафизического ума. Его никогда не прельщало суетное существование, где черпает пищу эгоизм. Он создан для созерцания самых высоких истин и для претворения в жизнь самых суровых добродетелей. Но в то же время благодаря совершенной нравственной красоте, весьма редкой у мужчин, он наделен необычайно нежной и любящей душою. Одно милосердие не удовлетворяет его, ему нужны привязанности. Любовь его распространяется на всех, и тем не менее он ощущает потребность сосредоточить ее на отдельных лицах. Преданность доходит у него до фанатизма, но в его добродетели нет ничего жестокого. Любовь окрыляет его, дружбе он отдается целиком, и его жизнь — это плодотворный неисчерпаемый источник благоговения перед абстрактным понятием, которое он называет человечеством, и перед отдельными существами, к которым он питает нежность. Словом, его благородное сердце является очагом любви — все высокие страсти находят там приют и живут, не зная соперничества. Если бы возможно было представить себе божество в виде смертного и бренного существа, я осмелилась бы сказать, что душа моего сына — это прообраз мировой души, именуемой Богом.
Вот почему Альберт — это слабое человеческое создание с его широкими стремлениями и ограниченными возможностями — не мог жить в доме своих родных. Не люби он их так пылко, он мог бы, обитая вместе с ними, устроить себе другую, обособленную жизнь, создать собственную веру — могучую и спокойную, отличную от их веры и снисходительную к их безобидному ослеплению, но это потребовало бы от него известной холодности, которая была так же для него невозможна, как невозможна была она когда-то для меня самой. Он не мог жить, разобщив ум и сердце, и с тоской, с отчаянием искал точек соприкосновения и общности взглядов с этими дорогими для него людьми. Вот почему, стоя один перед глухой стеной их католического упорства, их социальных предрассудков, их ненависти к религии равенства, он разбился, стеная, об их железную грудь и увял, как растение, лишенное влаги, призывая дождь с неба, который даровал бы ему что-то общее с теми, кого он любил. Устав одиноко страдать, любить, верить и молиться, он решил, что нашел жизнь в вас, и, когда вы приняли и разделили его взгляды, он обрел спокойствие и рассудок. Но вы не разделили его чувства, и разлука с вами неминуемо должна была погрузить его в еще более глубокое и более невыносимое одиночество.
Его вера, которую постоянно отрицали и опровергали, превратилась для него в невыносимую пытку. Ум его стал мешаться. Не имея родственной души, которая могла бы помочь ему укрепиться в самом важном и существенном, что оставалось в его жизни, он вынужден был уступить смерти.
Когда же он встретил сердца, способные его понять и сочувствующие ему, всех нас поразила его мягкость в спорах, его терпимость, доверчивость, скромность. Зная его прошлое, мы опасались найти в нем чрезмерную суровость, излишнюю настойчивость в отстаивании собственных взглядов, резкость, простительную для человека с пылким и убежденным сердцем, но способную помешать его собственному совершенствованию и повредить такому союзу, как наш. Он удивил нас ясностью души и прелестью обхождения. Возвышая и окрыляя нас своими беседами и поучениями, сам он был убежден, что все, что дает нам, заимствовал у нас. Здесь он быстро сделался предметом всеобщего и безграничного уважения, и вы не должны удивляться, что столько людей стараются вернуть вас ему, — ведь его счастье стало предметом соединенных усилий, настоятельной потребностью каждого, кто соприкоснулся с ним хотя бы на короткое время.
XXXVI
— Однако жестокий жребий нашего рода еще не завершился. Альберту суждено было продолжать страдать, его сердцу суждено было вечно истекать кровью из-за семьи, которая не была виновна в его несчастьях, но которую злой рок почему-то приговорил постоянно разбивать его жизнь и самой страдать из-за него. Как только силы Альберта окрепли, мы сообщили ему прискорбную весть о смерти его почтенного отца, происшедшей вскоре после его собственной: ничего не поделаешь, мы вынуждены воспользоваться этим странным выражением, чтобы охарактеризовать столь странное событие. Альберт оплакивал отца с нежной, горячей грустью и с твердой уверенностью в том, что, уйдя из жизни, тот не попадет в небытие католического рая или ада. К его скорби примешивалась даже какая-то торжественная радость, ибо он надеялся, что этот чистый, достойный награды человек найдет после смерти иную, лучшую жизнь. Поэтому гораздо сильнее, нежели кончина отца, его удручало одиночество, в каком остались другие его родственники — барон Фридрих и канонисса Венцеслава. Он упрекал себя за то, что вдали от них находит утешения, которыми не может поделиться с ними, и решил вернуться к ним на некоторое время, открыть тайну своего выздоровления, своего чудесного воскресения из мертвых и сделать их жизнь по возможности счастливой. Альберт не знал об исчезновении своей кузины Амалии, которое произошло в то время, когда он болел в Ризенбурге, и которое от него постарались скрыть, чтобы избавить от лишнего огорчения. Мы тоже сочли излишним сообщать ему об этом. Нам не удалось уберечь мою несчастную племянницу от прискорбного увлечения, а, когда мы собирались наказать ее обольстителя, менее терпимое самолюбие саксонских Рудольштадтов опередило нас. Они тайно захватили Амалию на прусской земле, где она надеялась найти приют, отдали ее на волю жестокого короля Фридриха, и этот монарх доказал им свою благосклонность, заключив молодую девушку в крепость Шпандау. Она промучилась там около года, ни с кем не видясь, и еще должна была почитать себя счастливой, что секрет ее позора строго охранялся великодушным тюремщиком-монархом.
— О сударыня, — с волнением перебила ее Консуэло, — неужели она все еще в Шпандау?
— Недавно мы помогли ей бежать оттуда. Альберт и Ливерани не могли похитить ее одновременно с вами, потому что надзор за ней был гораздо строже — постоянные вспышки раздражения, неосторожные попытки к бегству и другие выходки только усилили суровость ее заточения. Но мы располагаем и другими средствами, кроме тех, которым вы обязаны своим спасением. Наши адепты есть повсюду, и некоторые из них нарочно приобрели расположение при дворе царских особ, чтобы способствовать успеху наших дел. Мы добились для Амалии покровительства сестры прусского короля — молодой маркграфини Байрейтской, и та попросила выпустить ее на свободу, пообещав лично заняться ее судьбой и поручившись за ее дальнейшее поведение. Через несколько дней юная баронесса окажется у принцессы Софии-Вильгельмины, у которой злой язык, но доброе сердце. Принцесса отнесется к ней с такой же снисходительностью и с таким же великодушием, какие проявила по отношению к принцессе Кульмбахской, еще одной несчастной, которая, как и Амалия, тоже была обесчещена в глазах света и тоже узнала суровость королевских тюрем.
Принимая решение ехать к дяде и тетке в замок Исполинов, Альберт ничего не знал о бедствиях своей кузины. Он не понял бы, откуда черпал животную жизненную энергию граф Фридрих, который мог охотиться, есть и пить после стольких несчастий, откуда черпала свое благочестивое бесстрастие старая канонисса, которая не делала никаких попыток разыскать Амалию, опасаясь придать еще большей огласке ее скандальное приключение. Мы со страхом отговаривали Альберта от этой поездки, но он настоял на своем и однажды ночью уехал, не предупредив нас, а оставив письмо, в котором обещал скоро вернуться. Его отсутствие действительно длилось недолго, но принесло ему много горя.
Переодевшись в чужое платье, он пробрался в Чехию и неожиданно явился к одинокому Зденко в пещеру Шрекенштейна. Оттуда он собирался написать родственникам, открыть им всю правду о себе и подготовить их к своему возвращению. Зная Амалию как самую храбрую и в то же время самую легкомысленную из всех домочадцев, он решил через Зденко отправить свое первое послание именно ей. В ту самую минуту, как он писал письмо, а Зденко зачем-то вышел на гору, — это было на рассвете, — Альберт вдруг услышал ружейный выстрел и душераздирающий крик. Он выбегает из пещеры и видит Зденко, который несет на руках окровавленного Цинабра. Не позаботившись закрыть лицо, Альберт тут же подбежал к своему бедному старому псу. Но когда он принес верную, смертельно раненную собаку к месту, называемому «Подвалом монаха», он увидел охотника, который, насколько ему позволяли старость и тучность, бежал забрать свою добычу. То был барон Фридрих. Это он, выйдя на охоту при первых лучах солнца, принял в утренней мгле рыжую шерсть Цинабра за шкуру какого-то лесного зверя и прицелился сквозь ветки. Увы, у него еще были верный глаз и твердая рука! Он ранил собаку, выпустив ей в бок две пули. Внезапно он увидел Альберта. Приняв его за привидение, старик оцепенел от страха. Потом, забыв об истинных опасностях, отступил на самый край крутой тропинки, вдоль которой шел, свалился в пропасть и разбился о скалы. Он умер сразу, на том роковом месте, где в течение веков высилось проклятое дерево, где стоял знаменитый дуб Шрекенштейна, прозванный Гуситом, свидетель и некогда сообщник самых грозных преступлений.
Альберт видел, как падает его дядя, и, покинув Зденко, подбежал к краю обрыва. Но там уже толпились слуги барона, которые хотели поднять его, громко крича и плача, ибо барон не подавал признаков жизни. Альберт услыхал их слова: «Бедный наш господин! Он умер! Что скажет госпожа канонисса!» Забыв о себе, Альберт тоже стал кричать, звать. Как только его увидели суеверные слуги, панический страх овладел ими. Они уже готовы были бежать прочь от тела своего господина, когда старый Ганс, самый суеверный, но и самый храбрый из всех, остановил их и сказал, крестясь:
«Послушайте, друзья, это не наш господин, не господин Альберт стоит сейчас перед вами — это злой дух Шрекенштейна! Он принял его обличье и погубит всех нас, если мы струсим. Я сам видел, как он столкнул господина барона. И хочет унести его тело, чтобы сожрать его, — он вампир! Смелее, друзья! Говорят, что дьявол — трус. Сейчас я прицелюсь в него, а вы читайте то заклинание, которому нас научил капеллан».
Сказав это, Ганс еще несколько раз перекрестился, поднял ружье и выстрелил в Альберта, меж тем как остальные слуги столпились вокруг трупа барона. К счастью, Ганс был чересчур взволнован и напуган, чтобы прицелиться верно, — он действовал словно в лихорадке. И все-таки пуля просвистела над самой головой Альберта — ведь Ганс был лучшим стрелком в округе. В хладнокровном состоянии он неминуемо убил бы моего сына. В нерешительности Альберт остановился.
«Смелее, друзья, смелее! — крикнул Ганс, перезаряжая ружье. — Стреляйте в него, он трусит. Убить вы его не убьете, пули его не берут, но он уйдет, и мы успеем унести тело нашего бедного господина».
Видя направленные на него ружья, Альберт бросился в чащу и, скрывшись с глаз слуг, спустился по склону горы. Здесь он воочию убедился в ужасной истине — искалеченное тело его несчастного дяди лежало на окровавленных камнях. Череп был раздроблен, и старый Ганс с отчаянием кричал ужасные слова:
«Соберите мозг, не оставляйте его на камнях, не то собака вампира придет лизать его». — «Да, да, здесь была собака, — добавил другой слуга, — и сначала я даже принял ее за Цинабра». — «Но ведь Цинабр исчез сразу после смерти графа Альберта, — сказал третий, — и с тех пор никто его не видел. Он наверняка издох где-нибудь в уголке, а тот Цинабр, которого мы видели сейчас на горе, это такой же призрак, как другой вампир — двойник графа Альберта. Ужасное видение! Теперь оно будет вечно стоять перед моими глазами. О Господи! Смилуйся над нами и над душой несчастного господина барона — ведь из-за этого злого духа он умер без покаяния». — «Говорил же я, что ему не миновать беды, — снова начал Ганс жалобным тоном, собирая обрывки одежды барона руками, запачканными его кровью. — Ему постоянно хотелось охотиться именно в этом трижды проклятом месте! Он был уверен, что раз никто сюда не ходит, значит, здесь полным-полно лесной дичи. А ведь Богу известно, что на этой окаянной горе никогда не было никакой дичи, кроме той, что еще во времена моей молодости висела на ветвях того самого дуба. Проклятый Гусит! Дерево погибели! Небесный огонь пожрал его, но, пока в земле останется хоть один корень, злобные гуситы будут приходить сюда, чтобы мстить католикам. Ну, живей, живей, давайте сюда носилки, и уйдем отсюда! Здесь опасно. Ах, бедная госпожа канонисса… Что-то с ней будет! Кто первый решится подойти к ней и доложить, как бывало: “Господин барон вернулся с охоты”. Она скажет: “Велите живей подавать завтрак”. Как бы не так, завтрак! Пройдет немало времени, прежде чем у кого-нибудь появится аппетит в замке. Да, в этой семье слишком много несчастий, и уж я-то знаю, откуда они берутся!»

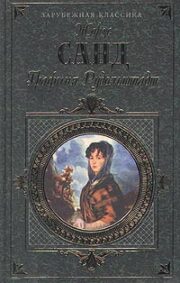
"Графиня Рудольштадт" отзывы
Отзывы читателей о книге "Графиня Рудольштадт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Графиня Рудольштадт" друзьям в соцсетях.