Придумывая, как бы с наибольшей пользой провести время, чтобы подготовиться к новому нравственному воспитанию, о котором ей говорили, Консуэло в первый раз со времени прибытия в ХХХ положила заняться чтением. Она вошла в библиотеку, которую до сих пор окидывала лишь беглым взглядом, и решила серьезно изучить книги, предоставленные в ее распоряжение. Они были немногочисленны, но чрезвычайно любопытны и, очевидно, весьма редкостны, а в большинстве своем даже уникальны. Здесь были собраны сочинения самых выдающихся философов всех эпох и всех стран, но они были сильно сокращены и заключали лишь самую сущность трактуемых доктрин. Все они были переведены на разные языки, знакомые Консуэло. Некоторые из них, никогда прежде не печатавшиеся в переводе, были написаны от руки, в частности — труды знаменитых еретиков и отцов новой мысли средневековья, драгоценные остатки прошлого, важнейшие отрывки которых и даже отдельные полностью сохранившиеся экземпляры избегнули поисков инквизиции и более поздних хищений иезуитов, опустошавших старинные замки еретиков в Германии после Тридцатилетней войны. Консуэло не могла оценить по достоинству эти сокровища философии, собранные каким-то страстным книголюбом или одним из смелых адептов. Подлинники заинтересовали бы ее оригинальностью букв и виньеток, но перед ней были лишь переводы, тщательно сделанные и изящно переписанные кем-то из современников. Больше всего ей понравились точные переводы Уиклифа, Яна Гуса и тех христианских философов-реформаторов, которые во все времена — прошлые, настоящие и последующие — были связаны с этими родоначальниками новой религиозной эры. Она не читала их прежде, но довольно хорошо знала благодаря долгим беседам с Альбертом. И теперь, тоже не читая, а только перелистывая их, она все-таки узнавала их все лучше и лучше. Консуэло не обладала философским умом, но душа ее была склонна к религии. Не живи она среди рассудительных и проницательных людей своего века, она легко могла бы впасть в суеверие и фанатизм. Да и сейчас она лучше понимала восторженные речи Готлиба, чем писания Вольтера, хотя последнего с упоением читали в то время все представительницы прекрасного пола. Эта умная и бесхитростная, мужественная и нежная девушка не склонна была к тонкостям рассуждении. Сердце всегда просвещало ее прежде чем разум. Схватывая на лету любые откровения чувства, она была способна разбираться в философских течениях и разбиралась в них исключительно глубоко для ее возраста, пола и положения благодаря тому, что в свое время ее развили дружеские наставления Альберта, его пылкие и красноречивые уроки. Артистическую натуру скорее обогащает устная лекция или взволнованная проповедь, нежели терпеливое и часто холодное изучение книги. Такова была Консуэло — она не могла внимательно прочитать и страницы, но если ее поражала какая-нибудь высокая идея, удачно переданная и завершенная образным выражением, душа ее устремлялась к ней, она повторяла ее словно музыкальную фразу, и мысль, даже самая сложная, освещала ее, словно божественный луч. Она жила этой идеей, сообразовывалась с нею во всех своих переживаниях, черпала в ней подлинную силу, запоминала на всю жизнь. И эта идея не являлась для нее пустым изречением, она становилась правилом поведения, оружием в борьбе. К чему было анализировать и изучать книгу в тот самый миг, как она ее просмотрела? Ведь эта книга целиком запечатлелась в ее сердце, как только им завладело произведенное впечатление. Судьба не повелевала Консуэло идти дальше. Она не собиралась постичь своим умом все глубины философии. Она ощущала жар тайных откровений, доступных лишь поэтическим душам, если они исполнены любви. Вот так читала она несколько дней подряд, почти ничего не читая. Ей не удалось бы передать кому-нибудь содержание этих книг, но многие страницы, где, быть может, она прочитала лишь по одной строчке, были окроплены ее слезами, и нередко, подбегая к клавесину, она импровизировала мелодии, нежность и величие которых являлись жгучим и непроизвольным выражением ее благородных чувств. Вся неделя прошла для нее в полном одиночестве, не нарушаемом более донесениями Маттеуса. Она дала себе слово не задавать ему впредь никаких вопросов. Быть может, он и сам получил выговор за свою нескромность, но только теперь он сделался столь же молчалив, сколь многословен был в первые дни. Малиновка продолжала каждое утро прилетать к Консуэло, однако Готлиб уже не появлялся вдалеке. Казалось, это маленькое созданьице (Консуэло готова была поверить, что оно заколдовано) назначило себе определенные часы, чтобы являться и веселить ее своим присутствием, а потом ровно в полдень возвращаться ко второму своему другу. В сущности, тут не было ничего чудесного. У живых тварей, живущих на воле, существуют свои привычки, и они проводят свой день еще более умно и предусмотрительно, чем домашние животные. Как-то утром Консуэло заметила, что птичка летит не так грациозно, как обычно. Она казалась рассерженной и недовольной. Вместо того чтобы подлететь и взять корм из ее пальцев, малиновка начала коготками и клювом сбрасывать с себя какие-то путы. Консуэло подошла ближе и увидела черную нитку, свисавшую с ее крыла. Быть может, бедняжка попала в силок и, вырвавшись из него благодаря ловкости и смелости, унесла с собой часть своих оков? Консуэло без труда взяла птичку в руки, но ей оказалось нелегко освободить ее от шелковой нитки, искусно завязанной у нее на спинке и поддерживавшей под левым крылом крошечный, очень тоненький мешочек. В мешочке оказалась записка, написанная едва различимыми буквами, а бумага была до того тонка, что, казалось, вот-вот рассыплется от ее дыхания. С первых же слов Консуэло поняла, что это было послание от дорогого ее сердцу незнакомца. В записке было всего несколько слов:
«В надежде, что радость приносить пользу заглушит волнение моей страсти, мне поручили выполнить одно доброе дело. Но ничто, даже возможность творить милосердие, не может рассеять мою душу, где царишь ты. Я выполнил поручение быстрее, чем это считали возможным. Я вернулся и люблю тебя больше прежнего. Но, по-видимому, небо проясняется. Не знаю, что произошло между тобой и ними, но они стали ко мне более снисходительны и теперь считают мою любовь уже не преступлением, а лишь несчастьем — для меня самого. Несчастьем! О, они не любят! Они не знают, что я не могу быть несчастен, если ты любишь меня, а ведь ты любишь, не правда ли? Скажи это малиновке из Шпандау. Это она. Я привез ее, спрятав на своей груди. Пусть же она отплатит мне за заботы и принесет от тебя хоть одно слово. Верный Готлиб передаст мне записку, не читая».
Таинственность и романтические приключения разжигают огонь любви. Консуэло страстно захотелось ответить, и надо сознаться, что боязнь рассердить Невидимых, нежелание нарушить свое слово не так уж сильно удерживали ее. Но мысль о том, что записка может быть обнаружена и явится причиной нового изгнания рыцаря, придала ей мужества. Она отпустила малиновку, не отправив с ней никакого ответа, но пролила немало слез, воображая, с какой горечью и разочарованием встретит возлюбленный эту жестокость.
Она сделала попытку продолжать свои занятия, но ни чтение книг, ни пение не могли утишить беспокойство, бушевавшее в ее груди с той минуты, как она узнала, что рыцарь находится где-то рядом. Она не могла запретить себе надеяться, что он нарушит запрет за них обоих и что вечером она увидит его в цветущих кустах. Но ей не хотелось побуждать его к этому, показываясь в саду, и весь вечер она провела взаперти, всматриваясь в щели жалюзи, трепеща от страха и от желания его увидеть и все-таки решившись не отвечать на его зов. Он не пришел, и она так удивилась и огорчилась, словно твердо рассчитывала на его безрассудство, хоть и стала бы бранить его за это, хоть оно снова разбудило бы все ее тревоги. Все незаметные и тайные драмы жгучих юных увлечений разыгрались за несколько часов в ее душе. То была новая фаза ее жизни, новые, дотоле не изведанные ощущения. Ей часто приходилось поджидать Андзолето вечером на набережных Венеции или на каменных ступеньках Корте-Минелли, но она ждала его, повторяя утренний урок или читая молитвы, без нетерпения, без страха, без трепета и без тревоги. Эта детская любовь еще так походила на дружбу, в ней не было ничего общего с той, какую она испытывала сейчас к Ливерани. На следующее утро она с волнением ждала малиновку, но та не прилетела. Не схватили ли ее по дороге строгие аргусы? Или неприятное ощущение от шелкового пояска и слишком тяжелой ноши помешало ей вылететь из дому? Но ведь птичка так умна, что, наверное, вспомнила бы, как Консуэло освободила ее накануне от этого груза, и явилась бы к ней снова, чтобы попросить о такой же услуге.
Консуэло проплакала весь день. Не пролившая ни единой слезы при самых больших несчастьях, не плакавшая даже и во время пребывания в Шпандау, она чувствовала себя сломленной и изнуренной страданиями своей любви и тщетно искала в себе ту силу, которая поддерживала ее прежде во время всех испытаний.
Вечером она села за клавесин, пытаясь разобрать одну из партитур, как вдруг две черные фигуры появились на пороге музыкального салона, хотя она и не слышала на лестнице их шагов. При виде этих призраков у нее вырвался испуганный возглас, но один из них произнес более мягким голосом, чем в первый раз:
— Следуй за нами.
И она молча, покорно встала. Ей дали шелковую повязку и сказали:
— Завяжи глаза сама и поклянись, что сделаешь это добросовестно. Поклянись также, что, если повязка упадет или сдвинется, ты закроешь глаза и откроешь их лишь тогда, когда мы тебе позволим.
— Клянусь, — ответила Консуэло.
— Твоя клятва считается действительной, — сказал проводник.
И Консуэло, как в первый раз, повели по подземелью. Когда же ей велели остановиться, незнакомый голос произнес:
— Сними повязку сама. Отныне ничья рука не прикоснется к тебе. У тебя не будет иного стража, кроме твоего слова.
Она оказалась в сводчатой комнате, освещенной лишь маленькой бледной лампой, висевшей на крюке посередине. Единственный судья в красной мантии и синевато-белой маске сидел на старинном кресле у стола. Он был согбен годами, несколько седых прядей виднелись из-под капюшона. Голос у него был надтреснутый и дрожащий. Вид старости сразу изменил чувства Консуэло, и страх, невольно охвативший ее при встрече с Невидимым, тотчас же перешел в почтительное уважение.
— Выслушай меня внимательно, — сказал он, знаком приказывая ей сесть на скамеечку в некотором отдалении. — Перед тобой тот, кто явится твоим исповедником. Я старейший из членов совета, и спокойствие всей моей жизни сделало мой ум не менее целомудренно чистым, чем ум чистейшего католического пастыря. Я не лгу. Но если ты все-таки хочешь отвергнуть меня, ты свободна.
— Я принимаю вас, — ответила Консуэло, — если только моя исповедь не повлечет за собой исповедь другого лица.
— Напрасное сомнение! — возразил старик. — Школьник не раскрывает учителю проступок товарища, но сын спешит осведомить отца о проступке своего брата, ибо ему известно, что отец пресекает и исправляет, не карая. Во всяком случае, таковы должны быть правила семьи. Ты здесь в лоне семьи, ищущей пути к идеалу. Доверяешь ли ты ей?
Этот вопрос, несколько преждевременный в устах совершенно незнакомого человека, был задан с такой кротостью, а звук его голоса был так мягок, что Консуэло, внезапно увлеченная и расстроганная, без колебаний ответила:
— Да, всецело доверяю.
— Теперь слушай, — продолжал старец. — Когда ты предстала перед нами впервые, ты произнесла слова, которые мы обдумали и взвесили. Ты сказала: «Для женщины — это страшная нравственная пытка — исповедоваться в присутствии восьмерых мужчин». Твоя стыдливость принята во внимание. Ты будешь исповедоваться только передо мной, и я не выдам твоих тайн. Мне дано нераздельное право — хоть я и не занимаю в совете какого-либо исключительного положения — быть твоим наставником в одном деле весьма щекотливого свойства, имеющем лишь косвенную связь с твоим посвящением. Готова ли ты отвечать мне без замешательства? Откроешь ли передо мной свое сердце?
— Да.
— Я не стану расспрашивать тебя о прошлом. Тебе уже было сказано — твое прошлое не принадлежит нам. Но тебя предупредили — ты должна очистить душу с той минуты, которая отметила начало твоего приобщения к нам. Тебе следовало подумать о трудностях и последствиях этого приобщения, но об этом ты отдашь отчет не мне одному. У нас с тобой будет разговор о другом. Отвечай же.
— Я готова.
— Один из наших сыновей полюбил тебя. Разделяешь ты эту любовь, о которой узнала неделю назад, или отвергаешь ее?
— Всеми своими поступками я отвергла ее.
— Знаю. Мельчайшие твои поступки известны нам.
Я спрашиваю о тайне твоего сердца, а не твоего поведения.
Консуэло почувствовала, что щеки ее запылали, и ничего не ответила. — Ты находишь, что мой вопрос жесток. И все-таки надо ответить. Я не хочу догадываться о чем-либо. Мне надо знать и занести в протокол твои слова.

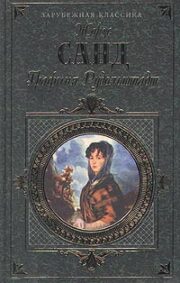
"Графиня Рудольштадт" отзывы
Отзывы читателей о книге "Графиня Рудольштадт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Графиня Рудольштадт" друзьям в соцсетях.