Глава 34
Благодаря стараниям Маркуса, осведомлявшего меня о мельчайших подробностях событий, происходивших в замке Исполинов, я узнала о решении семьи отправить Альберта путешествовать, о выбранном для него маршруте, и немедленно помчалась в те же края, чтобы встретиться с ним. Я имею в виду тот период странствий, о котором только что вам рассказала, и нередко Маркус сопровождал меня. Гувернер и слуга, которых послали с Альбертом, никогда не видели меня, и поэтому я не боялась попасться им на глаза. Мне так не терпелось увидеть моего сына, что, следуя за ним на расстоянии нескольких часов пути, я с трудом заставила себя не встречаться с ним до Венеции, где предполагалась его первая остановка. Однако я твердо решила показаться ему лишь в обстановке таинственности и торжественности — ведь не только горячее материнское чувство толкало меня в его объятия, нет, у меня был и другой, еще более важный, еще более материнский долг — вырвать Альберта из круга узких суеверных представлений, которыми его пытались опутать. Мне надо было завладеть его воображением, доверием, умом, всей его душой. Я думала, что он ревностный католик, и в этот период он как будто и был им. Он неукоснительно соблюдал все обряды католического богослужения. Лица, сообщавшие Маркусу эти подробности, не знали, что таилось в сердце Альберта. Не больше знали и его отец с теткой. Они могли упрекнуть его лишь в чрезмерно строгом выполнении долга, в чрезмерно наивном и пылком толковании Евангелия. Они не понимали, что благодаря своей строгой логике и полному чистосердечию мой благородный сын, упорно стремившийся исповедовать истинное христианство, уже был страстным, неисправимым еретиком. Меня немного пугал приставленный к нему гувернер-иезуит. Я опасалась, что, подойдя к сыну, буду сразу замечена этим неутомимым аргусом, что он будет чинить мне всевозможные препятствия. Но вскоре я убедилась, что недостойный аббат ХХХ не заботился даже о здоровье Альберта и что мой сын, не видевший ухода также со стороны слуг и не любивший отдавать им распоряжения, был предоставлен самому себе во всех городах, где проводил по несколько дней. С тревогой следила я за каждым шагом Альберта. В Венеции, остановившись в той же гостинице, что и он, я наконец увидела его одного. Задумавшись, он спустился с лестницы, миновал коридор, вышел на набережную. О, можете себе представить, как забилось при взгляде на него мое сердце, как забурлили во мне все чувства, какие потоки слез хлынули из моих изумленных и восхищенных глаз. Он показался мне таким красивым, таким благородным и, увы, таким печальным! А ведь это было единственное существо, которое мне дозволено было любить на этой земле. Я осторожно пошла за ним. Вечерело. Он вошел в церковь святого Ийанна и святого Павла — в суровый храм со множеством гробниц, который вам, конечно, хорошо известен. Он опустился на колени в углу храма. Я прокралась туда и спряталась за одним из надгробных памятников. Церковь была пуста, мрак сгущался с каждой минутой. Альберт был неподвижен, как статуя, но, казалось, он не молился, а скорее размышлял о чем-то. Светильник на алтаре слабо озарял его лицо. Оно было так бледно, что я испугалась. Остановившийся взгляд, полуоткрытые губы, отчаяние, сквозившее в его позе и выражении лица, надрывали мне сердце. Я дрожала, как колеблющееся пламя светильника. Мне казалось, что, если бы я открылась ему сейчас, он упал бы без чувств. Я вспомнила все, что говорил мне Маркус о его болезненной впечатлительности, о том, как опасны для этой нервной организации всякие внезапные волнения. И, чтобы не поддаться порыву моей любви, я вышла из церкви и стала ждать его у входа. На свое платье, правда, очень скромное и темное, я еще раньше набросила коричневый плащ с капюшоном, закрывавшим лицо и придававшим мне вид итальянки из простонародья. Когда он вышел, я невольно шагнула ему навстречу. Он остановился и, приняв меня за нищенку, наугад вынул из кармана золотую монету и протянул ее мне. Ах, с какой гордостью, с какой признательностью приняла я это подаяние! Взгляните, Консуэло, это венецианский цехин. Я велела просверлить в нем дырочку, вдела в него цепочку и всегда ношу на груди как драгоценность, как реликвию. С тех пор этот подарок, освященный рукой моего сына, никогда меня не покидает. Не совладав со своим волнением, я схватила эту дорогую руку и прижала ее к губам. Он с испугом отдернул руку — она была влажной от моих слез.
«Что вы делаете, женщина? — сказал он, и его чистый, звучный голос отдался в самой глубине моего сердца. — Почему благословляете меня за столь ничтожный дар? Должно быть, вы очень несчастны — ведь я дал вам так мало. Что нужно сделать, чтобы вы перестали страдать? Скажите. Я хочу утешить вас и надеюсь, что это будет в моих силах».
И, не глядя, он вынул все золото, какое при нем было.
«Ты дал мне достаточно, добрый юноша, — ответила я, — больше мне не нужно».
«Тогда почему вы плачете? — спросил он, пораженный рыданиями, от которых я задыхалась. — Значит, у вас есть горе, которому бессильны помочь мои деньги?»
«Нет, я плачу от умиления и от радости», — ответила я.
«От радости! Значит, бывают слезы радости? И столько слез из-за золотой монеты! О, человеческая нищета! Женщина, прошу тебя, возьми все, только не плачь от радости. Подумай о твоих братьях-бедняках. Их так много, они так унижены, так жалки, а облегчить участь всех я бессилен». Он ушел вздыхая. Боясь выдать себя, я не решилась следовать за ним.
Свое золото он оставил на камне, словно стремясь поскорее избавиться от него. Я подняла монеты и опустила в кружку для милостыни, чтобы исполнить благородное желание моего сына. На следующий день я опять подстерегла его и увидела, как он вошел в собор святого Марка. Я решила быть более сильной и спокойной, и это удалось мне. Мы опять оказались одни в полумраке церкви. Он опять долго размышлял, а потом, поднимаясь с колен, вдруг прошептал: «О Христос! Каждый день своей жизни они распинают тебя!»
«Да, фарисеи и книжники!» — ответила я, прочитав его мысль.
Он вздрогнул, с минуту помолчал, а потом, не оборачиваясь и не пытаясь взглянуть, кто же произнес эти слова, тихо сказал:
«Опять голос моей матери!»
Консуэло, я чуть не лишилась чувств, когда услышала, что Альберт помнит меня, что в его сердце сохранилась сыновняя любовь. Но страх повредить его рассудку, и без того сильно возбужденному, снова остановил меня. Я опять вышла и стала ждать его у входа, а когда он прошел мимо, не двинулась с места, радуясь уже тому, что видела его. Однако он сам заметил меня и отступил в страхе.
«Синьора, — сказал он после минутного колебания, — почему вы опять просите милостыню? Неужели это и в самом деле ремесло, как уверяют безжалостные богачи? Разве у вас нет семьи? Разве вместо того, чтобы, как привидение, бродить по ночам около церквей, вы не можете позаботиться о ком-нибудь? Неужели того, что я вам дал вчера, не хватило на ночлег сегодня? Или вы хотите захватить ту долю, которая могла бы достаться вашим братьям?»
«Я не прошу милостыни, — ответила я. — Твое золото я опустила в ящик для бедных, все, кроме одного цехина — этот я хочу сохранить из любви к тебе».
«Кто же вы? — воскликнул он, схватив меня за руку. — Ваш голос волнует меня до глубины души. Мне кажется, что я знаю вас. Откройте ваше лицо!.. Впрочем, нет, я не хочу его видеть, вы внушаете мне страх».
«Ах, Альберт! — вскричала я, потеряв всякую власть над собой, забыв о благоразумии. — Значит, и ты… ты тоже боишься меня?»
Он задрожал всем телом и опять прошептал с выражением страха и благоговения:
«Да, это ее голос — голос моей матери!»
«Я не знаю, кто твоя мать, — возразила я, испугавшись собственной неосторожности, — но мне известно твое имя, потому что оно уже знакомо беднякам. Чем я так испугала тебя? Как видно, твоя мать умерла?»
«Они говорят, что умерла, — отвечал он, — но для меня она жива».
«Где же она?»
«В моем сердце, в мыслях, постоянно, непрерывно. Мне снился ее голос, снилось ее лицо, сто — нет, тысячу раз».
Пылкое чувство, которое влекло его ко мне, восхитило, но в такой же мере и устрашило меня. Я увидела в нем признак душевного расстройства. И поборола свою нежность, чтобы успокоить его.
«Альберт, я знала вашу мать, — сказала я. — Я была ее другом. Она давно поручила мне поговорить с вами о ней, поговорить в тот день, когда вы будете достаточно взрослым, чтобы понять меня. Я не та женщина, какой кажусь. Вчера и сегодня я ходила за вами следом лишь для того, чтобы найти случай поговорить с вами. Выслушайте же меня спокойно и не поддавайтесь суеверным страхам. Согласны вы пойти под аркады Прокураций — сейчас они пустынны — и побеседовать со мной? Достаточно ли вы спокойны, достаточно ли сосредоточены для этого ваши чувства?»
«Вы друг моей матери! — воскликнул он. — Вам она поручила рассказать о себе! О да, говорите, говорите! Вот видите — я не ошибся, внутренний голос предупредил меня! Я почувствовал, что в вас есть что-то от нее. Нет, я не суеверен, не безумен, просто сердце у меня более чувствительно, более восприимчиво к иным вещам, которых многие другие не чувствуют и не понимают. Вы поймете это — ведь вы знали мою мать. Расскажите же мне о ней, расскажите ее голосом, ее словами».
Когда мне удалось немного успокоить Альберта, я увела его в галерею и начала расспрашивать о его детстве, воспоминаниях, о принципах, в которых его воспитали, о том, как он относится к взглядам и убеждениям своей матери. Мои вопросы показали ему, что я посвящена во все семейные тайны и способна понять его сердце. О дочь моя! Какой восторг, какая гордость овладели мною, когда я увидела горячую любовь ко мне моего сына, его уверенность в моем благочестии и добродетели, его отвращение к суеверному ужасу, который внушала моя память католикам Ризенбурга, когда я увидела чистоту его души, величие его религиозных и патриотических чувств, наконец — все те благородные инстинкты, которые не смогло в нем заглушить католическое воспитание! И в то же время какую глубокую скорбь вызвала во мне преждевременная и неизлечимая печаль этой юной души и борьба, которая уже готова была ее надломить, как некогда пытались надломить мою душу! Альберт все еще считал себя католиком. Он не осмеливался открыто восстать против законов церкви. У него была потребность верить в догматы общепринятой религии. Образованный и не по годам склонный к размышлению (ему едва исполнилось двадцать), он глубоко задумывался над длинной и печальной историей различных ересей и не мог решиться осудить некоторые из наших доктрин. Однако под влиянием историков церкви, которые так преувеличили и так извратили заблуждения сторонников нового, он не мог поверить им и был полон сомнений, то осуждая бунт, то проклиная тиранию и делая лишь один вывод — что люди, жаждущие добра, сбились с пути в своих попытках к преобразованиям, а люди, жаждущие крови, осквернили алтарь, стремясь его защитить.
Итак, надо было внести ясность в его суждения, осведомить об ошибках и крайностях обоих лагерей, научить смело защищать сторонников нового, несмотря на их прискорбную, но неизбежную горячность, и убедить покинуть стан хитрости, насилия и порабощения, напомнив при этом о несомненно важном значении некоторых действий наших противников в более отдаленные времена. Просветить Альберта оказалось нетрудно. Он провидел, предугадывал, делал выводы еще до того, как я успевала закончить свои доказательства; его прекрасная натура была близка тому, что я хотела ему внушить. Однако, когда он окончательно понял все, скорбь, еще более тягостная, нежели сомнение, завладела его сокрушенной душою. Стало быть, истина нигде не признается на этой земле! Нет больше святилища, где бы соблюдался божеский закон! Ни один народ, ни одна каста, ни одно учение не проповедует христианскую добродетель и не пытается разъяснить ее и распространить! И католики и протестанты свернули с дороги, ведущей к богу. Повсюду царит право сильного, повсюду слабый унижен и находится в цепях. Христа ежедневно распинают на всех алтарях, воздвигнутых людьми!.. Вся ночь прошла в этой горькой и волнующей беседе. Башенные часы медленно отбивали время, но Альберт не обращал на них ни малейшего внимания. Меня пугала эта сила умственного напряжения, сулившая такую склонность к борьбе и к скорби. С восхищением и тревогой я любовалась выражением мужественной гордости и отчаяния на лице моего благородного и несчастного сына. Я узнавала в нем себя, и мне казалось, что я перечитываю книгу своего прошлого и вновь начинаю вместе с ним путь длительных терзаний моего сердца и рассудка. На его высоком, освещенном луной челе отражалась духовная красота моей бесплодной, непонятой и одинокой юности, и я одновременно оплакивала его и себя. Его жалобы длились долго и надрывали мне сердце. Я еще не решалась рассказать ему тайну нашего заговора — я боялась, что сгоряча он может в своей скорби отвергнуть его как бесполезную и опасную попытку. Обеспокоенная тем, что он не спит и находится на улице в столь поздний час, я постаралась с осторожностью воздействовать на его воображение, пообещав, что укажу ему спасительную гавань, если он согласится ждать и готовить себя к важным секретным сведениям, и отвела его в гостиницу, где жили мы оба, пообещав новую встречу, но лишь через несколько дней: мне не хотелось чересчур сильно возбуждать его фантазию.

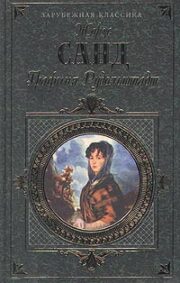
"Графиня Рудольштадт" отзывы
Отзывы читателей о книге "Графиня Рудольштадт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Графиня Рудольштадт" друзьям в соцсетях.