— Брат сопровождающий, — обратился к Маркусу восьмой человек, сидевший ниже семи судей и всегда говоривший вместо них, — кого вы привели к нам? Как имя этой женщины?
— Консуэло Порпорина, — сказал Маркус.
— Нет, брат мой, вы дали неправильный ответ, — возразила Консуэло. — Разве вы не видите, что я явилась сюда в одежде новобрачной, а не в платье вдовы? Возвестите о приходе графини Рудольштадт.
— Дочь моя, — сказал брат, — я говорю с вами от имени совета. Вы уже не носите этого имени. Ваш брак с графом Рудольштадтом расторгнут.
— А по какому праву? По чьему повелению? — спросила Консуэло резким и громким голосом, словно в лихорадке. — Я не признаю никакой теократической власти. Вы сами научили меня признавать лишь те права, какие я добровольно дала вам над собой, и подчиняться лишь отеческому авторитету. Но он не будет таковым, если вы расторгнете наш брак без согласия моего и моего супруга. Ни он, ни я не давали вам такого права.
— Ты ошибаешься, дочь моя: Альберт дал нам право распоряжаться его судьбой и твоей. И ты тоже дала нам это право, когда открыла свое сердце и поведала, что полюбила другого.
— Я ни в чем вам не признавалась, — возразила Консуэло, — и отрицаю признание, которое вы хотите у меня вырвать.
— Введите прорицательницу, — сказал Маркусу говоривший.
Высокая, закутанная в белое женщина, чье лицо было закрыто покрывалом, вошла и села в центре полукруга, образованного судьями. По нервной дрожи, сотрясавшей ее тело, Консуэло сразу узнала Ванду.
— Говори, жрица истины, — сказал оратор, — говори, изобличительница и толковательница самых сокровенных тайн, самых тонких движений человеческого сердца. Является ли эта женщина супругой Альберта Рудольштадта?
— Да, она его верная и достойная супруга, — ответила Ванда, — но сейчас вы должны провозгласить ее развод. Вы видите, кто привел ее сюда, видите, что тот из наших сыновей, чью руку она держит, любим ее, и она должна принадлежать ему в силу незыблемого права любви в браке.
Консуэло с удивлением обернулась к Ливерани и взглянула на свою руку, застывшую и словно умершую в его руке. Ей почудилось, что она спит и силится проснуться. Наконец она решительно вырвала руку и, посмотрев на свою ладонь, увидела на ней отпечаток креста, некогда принадлежавшего ее матери.
— Так вот он, человек, которого я любила! — проговорила она с грустной улыбкой святого простодушия. — Что ж, правда, я любила его нежно, безумно, но это был сон! Я думала, что Альберта нет в живых, а вы говорили мне, что Ливерани достоин моего уважения, доверия. Потом я увидела Альберта. Из его слов, обращенных к другу, я поняла, что он как будто не хочет больше быть моим мужем, и я перестала бороться с любовью к этому незнакомцу, чьи письма и заботы опьяняли меня, сводили с ума. А потом мне сказали, что Альберт по-прежнему любит меня, что он отказывается от меня только из великодушия и благородства. Так почему же Альберт убедил себя, что моя преданность уступит его чувству? Какое преступление совершила я до сих пор, чтобы меня сочли способной разбить его сердце ради эгоистического счастья? Нет, я никогда не запятнаю себя подобным преступлением. Если, по мнению Альберта, я недостойна его, потому что позволила себе полюбить другого, если он не решается уничтожить эту любовь и не хочет внушить мне еще большую, я подчинюсь его решению, я соглашусь на развод, против которого восстают и сердце мое и совесть, но я не стану ни женой, ни возлюбленной другого. Прощайте, Ливерани, если действительно таково ваше имя. Я доверила вам крест моей матери в минуту самозабвения, но не стыжусь ее и ни о чем не жалею. Верните же мне этот крест, чтобы, вспоминая друг о друге, мы могли испытывать лишь взаимное уважение и сознание, что мы оба выполнили свой долг без горечи и без принуждения.
— Ты знаешь, что мы не признаем подобной морали, — возразила прорицательница, — и не принимаем подобных жертв. Мы хотим возвеличить и восславить любовь, утраченную и опошленную в этом мире, восславить свободный выбор сердца, священный и добровольный союз двух существ, равно любящих друг друга. Нам дано право облегчать совесть наших детей, отпускать грехи, соединять подходящие пары, разбивать оковы старого общества. Следовательно, ты не имеешь права приносить себя в жертву, не смеешь заглушать свою любовь и отрицать истинность твоего признания без нашего согласия.
— К чему говорите вы мне о свободе, о любви и о счастье? — воскликнула Консуэло в каком-то восторженном порыве, шагнув ближе к судьям и обратив к ним лицо, сияющее вдохновением и величием. — Разве не вы сами заставили меня пройти через испытания, которые оставляют вечную бледность на челе и непобедимую суровость в сердце? За какое же бесчувственное, низкое существо принимаете вы меня, если думаете, что я еще способна мечтать о личном счастье, после того, что видела, постигла, что знаю отныне о жизни людей и о моих обязанностях в этом мире?
Нет, нет! Прочь любовь, прочь супружество, прочь свободу, прочь счастье, славу, искусство! Больше ничего не существует для меня, если я должна причинить страдание самому малому из мне подобных! Разве не доказано, что всякая радость в этом мире покупается ценой радости другого? Разве нет более высоких забот, нежели забота о своем собственном благе? Разве не то же самое думает Альберт, и разве я не имею права думать так, как думает он? Разве он не питает надежду, что именно его самоотречение даст ему силы трудиться на пользу человечества с еще большим рвением и умом, чем когда бы то ни было прежде? Позвольте мне быть такой же великодушной, как Альберт. Позвольте мне бежать от обманчивой и преступной иллюзии счастья. Дайте мне работу, тяжелую, утомительную, дайте мне боль и вдохновение! С той минуты, как вы неосторожно показали мне мучеников и орудия пытки, я сама жажду мученичества. Да будет стыдно тому, кто понял свой долг и все-таки думает о своей доле счастья и покоя на этой земле! О Ливерани, если вы любите меня после того, как прошли те же испытания, какие привели сюда меня, вы безумец, вы дитя, недостойное называться мужчиной и, уж конечно, недостойное того, чтобы я пожертвовала ради вас героической привязанностью Альберта. А ты, Альберт, если ты здесь, если ты слышишь меня, тебе бы следовало назвать меня хотя бы сестрой, протянуть мне руку и поддержать на том тернистом пути, который ведет тебя к богу.
Экстаз Консуэло дошел до апогея, она уже не могла выразить его словами. Ею овладело необыкновенное возбуждение, и, подобно пифиям, которые в минуту божественного наития выражают свои чувства дикими криками и яростными телодвижениями, она вдруг ощутила потребность проявить обуревавшее ее волнение способом, наиболее для нее естественным: она запела. Ее звонкий голос прозвучал так же трепетно, как тогда, когда она впервые пела публично эту арию в Венеции перед Марчелло и Порпорой.
I cieti immensi narrano
Del grande Iddio la gloria!
Ей потому вспомнился этот гимн, что, пожалуй, он является наиболее простодушным и наиболее сильным выражением религиозного восторга, какое нам когда-либо дарила музыка. Но ей не хватило спокойствия, необходимого для того, чтобы владеть и управлять голосом, и после первых двух строф из груди ее вырвалось рыдание, из глаз хлынули слезы, и она упала на колени.
Наэлектризованные ее пылом. Невидимые все вместе поднялись со своих мест и, стоя в почтительной позе, слушали это вдохновенное пение. Однако, увидев, что она изнемогла от обуревавшего ее чувства, они приблизились к ней, а Ванда, пылко обняв ее, толкнула в объятия Ливерани с возгласом:
— Взгляни же на него и знай, что бог даровал тебе возможность примирить любовь и добродетель, счастье и долг. Консуэло на миг потерявшая слух и как бы перенесенная в иной мир, наконец посмотрела на Ливерани, с которого Маркус успел сорвать маску. Она испустила пронзительный крик и едва не потеряла сознания на груди возлюбленного, узнав Альберта. Альберт и Ливерани были одно и то же лицо.
Глава 41
В эту минуту двери храма с металлическим звоном распахнулись, и туда попарно вошли Невидимые. Раздались волшебные звуки гармоники , этого недавно изобретенного инструмента, еще незнакомого Консуэло. Казалось, они проникали сверху, сквозь полуоткрытый купол, вместе с лучами луны и живительными струями ночного ветерка. Дождь цветов медленно падал на счастливую чету, являвшуюся центром этой торжественной процессии. У золотого треножника стояла Ванда. Правой рукой она поддерживала в нем яркое пламя благовонного курения, а в левой держала оба конца символической цепи из цветов и листьев, которую набросила на влюбленную пару. Наставники Невидимых, чьи лица были закрыты длинными красными покрывалами, а головы увенчаны такими же освященными обычаем эмблемами — листьями дуба и акации, стояли с протянутыми руками, как бы готовые принять своих братьев, проходивших мимо и склонявшихся перед ними. Эти наставники были величественны, как древние друиды, но их руки, не запятнанные кровью, умели только благословлять, и глубокое благоговение заменяло ныне в сердцах адептов фанатический страх религии минувшего. Приближаясь к высокому судилищу, посвященные снимали маски, чтобы с открытым лицом приветствовать этих величавых незнакомцев, со стороны которых они никогда не видели ничего, кроме милосердия, справедливости, отеческой любви и высокой мудрости. Верные данной клятве, далекие от сожалений и недоверия, они не пытались прочитать любопытным взором, кто скрывается под этими непроницаемыми покровами. Вероятно, сами того не зная, адепты были знакомы со своими учителями, этими волхвами новой религии, которые, встречаясь с ними в обществе и на разных сборищах, были лучшими друзьями, ближайшими наперсниками большинства из них, а быть может, даже каждого. Но при (Совершении обряда лицо жреца было закрыто, как у оракула древних времен.
Счастливое детство наивных верований, сказочное утро священных заговоров, которые во все эпохи окутывала дымка тайны, туман поэтической недостоверности! Лишь одно столетие отделяет нас от существования Невидимых, а оно уже сомнительно для историка, но тридцатью годами позже орден иллюминатов вновь облекается в те же неведомые толпе формы и, черпая силы как в изобретательном гении своих наставников, так и в преданиях тайных обществ мистической Германии, он ужасает мир самым грозным и самым искусным из всех заговоров политических и религиозных. На мгновение этот орден пошатнул троны всех королевских династий, а потом, в свою очередь, рухнул, оставив в наследство французской революции передавшийся, как электрический ток, высокий энтузиазм, пылкую веру и грозный фанатизм. За полвека до этих отмеченных судьбой дней, в те времена, когда галантное царствование Людовика XV, философский деспотизм Фридриха II, скептическое и насмешливое владычество Вольтера, честолюбивая дипломатия Марии-Терезии и еретическая терпимость Ганганелли, — в те времена, когда все это, казалось, надолго возвещало миру одряхление, соперничество, хаос и разложение, французская революция уже бродила, как вино, во мраке и созревала под землей. Она вынашивалась в умах верящих до фанатизма людей как мечта о всемирной революции, и, пока разврат, лицемерие или неверие царили на земле, высокая вера, великолепное проникновение в будущее, проекты переустройства мира, столь же глубокие и, быть может, более обоснованные научно, чем наш фурьеризм и наш нынешний сенсимонизм, помогали отдельным группам людей необыкновенных создавать в своем воображении представление о будущем обществе, диаметрально противоположном тому обществу, чьи действия до сих пор скрывает и замалчивает история. Подобный контраст является одной из поразительнейших черт восемнадцатого века, который до того насыщен идеями и напряженной работой ума во всех областях, что философы и историки наших дней еще не могут сделать ясные и полезные обобщения. Дело в том, что в нем есть уйма противоречивых документов и непонятых фактов, с первого взгляда неуловимых, есть множество источников, замутненных сутолокой века, источников, которые бы следовало терпеливо расчистить, чтобы добраться до надежной сути. Многие усердные труженики остались неизвестными и унесли в могилу тайну своей миссии — ведь столько славных подвигов поглощало тогда внимание современников, столько блестящих работ и поныне привлекают внимание исследователей прошлого! Однако понемногу свет возникнет из этого хаоса, и если наш век сможет когда-нибудь понять собственную сущность, он поймет также и смысл жизни своего отца — восемнадцатого века, смысл этой огромной шарады, этого блестящего логогрифа, где уживалось столько противоположностей: подлость и величие, знание и невежество, варварство и цивилизация, ясность мысли и заблуждения, положительность и склонность к поэтическим восторгам, неверие и вера, мудрый педантизм и легкомысленная насмешливость, суеверие и горделивый разум. Он поймет это столетие, видевшее владычество госпожи де Ментенон и госпожи де Помпадур, Петра Великого и Екатерины II, Марии-Терезии и Дюбарри, Вольтера и Сведенборга, Канта и Месмера, Жан-Жака Руссо и кардинала Дюбуа, Шрепфера и Дидро, Фенелона и Лоу, Цинцендорфа и Лейбница, Фридриха II и Робеспьера, Людовика XIV и Филиппа Эгалите, Марии-Антуанетты и Шарлотты Корде, Вейсгаупта, Бабефа и Наполеона… Страшную лабораторию, где в тигель было брошено такое множество разнородных элементов, что в своем чудовищном кипении они извергли из себя клубы дыма, и мы до сих пор бродим впотьмах, окутанные туманными образами.

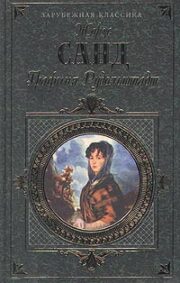
"Графиня Рудольштадт" отзывы
Отзывы читателей о книге "Графиня Рудольштадт". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Графиня Рудольштадт" друзьям в соцсетях.