— Телеграммы?
— Нет, господин доктор.
— Кто-нибудь меня спрашивал?
— Нет. Пока нет…..
Оттерншлаг обошел весь холл и уселся на своем обычном месте. К нему подбежал курьер, официант принес чашку кофе. Оттерншлаг смотрел стеклянным глазом на девушку, расставлявшую цветы в вазах на своем прилавке, но не видел ее.
— Доброе утро, — поздоровался портье с супружеской четой, видимо, провинциалов, которая остановилась возле стойки. — Комнаты? Пожалуйста, семидесятый номер освободился. Очень хороший номер, с ванной. И семьдесят второй, двухкомнатный, но, к сожалению, без ванной. Наверное, сегодня или завтра освободится еще соседний, семьдесят первый номер, с ванной, прекрасные апартаменты. Попрошу вас обратиться теперь в соседнее окошко… Что? Алло, я не расслышал! — вдруг закричал Зенф в телефонную трубку. — Что? Да, сейчас иду. Меня вызывают к городскому телефону. По личному делу. Из больницы, — сказал он маленькому Георги и бросился прямиком через холл, через коридор к телефонной кабине номер четыре, куда махал рукой телефонист.
Доктор Оттерншлаг встал и деревянным шагом подошел, как обычно, к стойке портье.
— Господин Крингеляйн у себя? — спросил он.
— Нет. Господин Крингеляйн уехал, — ответил Георги.
— Уехал. Так. Ничего для меня не оставил? — спросил Оттерншлаг, помолчав.
— Нет. Сожалею, ничего, — ответил Георги с вежливостью, которой научился у Зенфа. Оттерншлаг снова пошел на свое обычное место, но на сей раз не окольным путем, а по резкой диагонали через весь холл. Это было странно. Мимо пробежал портье Зенф, его ясное благонадежное фельдфебельское лицо блестит от испарины после чудовищного волнения. Он бросился к своей стойке, словно в спасительную гавань.
— Девочка! Искусственные роды. Девочка, вес пять фунтов. И теперь уже никакой опасности. Никакой опасности! Обе живы-живехоньки, — выпалил Зенф и сорвал с головы фуражку Его лицо — вдруг ставшее штатским — сияло, глаза были мокрыми. Увидев, что Рона выглядывает поверх стеклянной перегородки, Зенф поспешил надеть фуражку. Провинциальная чета погрузилась в лифт. Их поселили в 72-м номере, двухместном, без ванной. Здесь еще слабо пахло фиалками — пудрой Флеммхен.
— Открой окно, — сказала жена.
— Хорошо. Все равно тут сквозит, — ответил муж.
В холле сидит доктор Оттерншлаг, ведет разговоры сам с собой:
— Это ужасно. Все время одно и то же. Ничего не происходит. Ужасное одиночество. Мир — опустевшая звезда, которая не дает тепла. В Руж-Круа остались двадцать девять засыпанных землей солдат. Наверное, я — один из них, лежу там со всеми остальными с конца войны, я умер, но не знаю, что умер. Если бы в этой большой дыре произошло что-то стоящее… Так нет же. Ничего не происходит. Уехал. Адье, господин Крингеляйн. А я дал бы вам на дорогу рецепт обезболивающего. Но нет — уехал и даже не попрощался. Тьфу!.. Приехал — уехал… туда — сюда, туда — сюда…
Ученик портье Георги задумался за своей стойкой: простые и глубоко банальные мысли. «Великолепно идут дела в таком вот большом отеле. Колоссально. Все время что-то случается. Одного арестовали, другой убит, тот уезжает, а этот приезжает. Одного уносят на носилках с черного хода, и тут же у другого рождается ребенок. Страшно интересно, в самом деле! Да, такова жизнь».
Доктор Оттерншлаг сидит в холле — каменное изваяние одиночества и безжизненности. У него здесь постоянное место, здесь он и останется. Желтые, тяжелые, как свинец, пальцы лежат на коленях, стеклянный глаз смотрит на улицу, где все залито солнцем, которого Оттерншлаг не видит.
Входная дверь вращается — поворот, поворот, еще поворот…

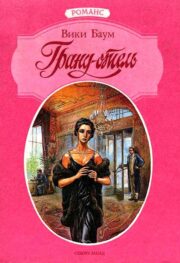
"Гранд-отель" отзывы
Отзывы читателей о книге "Гранд-отель". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Гранд-отель" друзьям в соцсетях.