– Думаю, ты преувеличиваешь. Это не то же самое. Из-за того, что ты ухаживаешь немного за мной, я не смогу избежать опасности.
– Заражение. Моя лихорадка была заразная, и ты знал. Ты видел, как я давала лекарства в хижинах. Чудо, что никто на Люцифере не заболел, кроме меня. Любой на твоем месте оставил бы меня в первом же порту.
– На Мари Галант, да? С твоим доктором Фабером. Этого бы ты хотела, – упрекнул Хуан с неподдельным недовольством.
– Возможно, и ты хотел бы этой ночью освободиться от меня.
Волнуясь и сдерживаясь, Моника вновь ждала ответа, но Хуан еще оборонялся, искал неясное выражение, выход, чтобы не признаваться:
– Я говорю не из-за себя. Я думаю, что ты в опасности, это ради тебя.
– Ты никогда не говоришь прямо, Хуан?
– Иногда, но не с тобой, – Хуан не решался. – Не думаешь, что достаточно вопросов для раненого?
– Возможно. Но у тебя вид не слишком больной. Я ошиблась насчет тебя. Думала, что ты без сознания, а тем не менее ты слышал все, до самого последнего слова, сказанного вполголоса. Думала, у тебя нет сил открыть глаза, а ты подходил к окну. Воображала, что ты нуждаешься в моих заботах, и вероятно, не признаешь случайность, которая привела меня сюда.
– Не признаю.
– В таком случае, что с тобой? Говори!
– Просто ты подавляешь меня, Моника. Ты всегда идешь по самому суровому, тернистому и трудному пути, а когда кто-то думает, что у тебя есть какая-то личная причина, чтобы делать это, как это обычно делается на белом свете, то оказывается, что ты действуешь лишь в согласии со своей совестью, чтобы полностью исполнить долг. Понятно, почему ты хотела спрятаться в монастыре. Он такой совершенный для нашей печальной и грубой жизни.
– Почему ты так говоришь? Твои похвалы знают только насмешку, Хуан Дьявол!
– Вот ты и сказала «Хуан Дьявол». Сказала так, что мне приходится сожалеть об этом имени.
– Если я скажу Хуан Бога, то ответишь так же. С тобой не угадаешь. Так или иначе, ты все равно возражаешь.
– Почему ты должна говорить Бога или Дьявола? Зови Хуан и все. Тебя это будет мало утруждать.
– И будет более точным. Думаю, ты прав. Ты не Бога и не Дьявола. Ты такой, какой есть. Суровый, закрытый, такой же эгоистичный, как эти скалы, которые неподвижно стоят под ударами моря тысячи лет. Ладно. Что будем делать? Полагаю, так лучше.
– Куда ты, Моника?
– Позвать Сегундо, чтобы остался с тобой. Что с тобой? Чего ты хочешь?
– Не уходи так. Посиди еще. Я хочу сказать кое-что, но… у меня не слишком много сил, знаешь?
– Полагаю, ты притворяешься слабым, чтобы снова посмеяться.
Несмотря на свои слова, она заботливо подошла, потрогала его лоб, пульс, с беспокойством посмотрела на кровь, пропитавшую бинты, и заметила:
– Нужно сменить повязки. Рана опять кровоточит. Конечно, если бы ты лежал тихо. Какая нужда подниматься и выглядывать везде? Ты хуже ребенка. В сотни раз хуже.
– Уже прошло, не беспокойся. На самом деле, я хочу, чтобы ты осталась. Ты не ответила, о чем я спросил тебя.
– Не говори пока ничего. Думаю, ты на самом деле ослаб… – она открыла дверь и позвала: – Колибри, Колибри! Поищи Сегундо. Скажи, чтобы принес горячей воды и повязки, которые я дала ему раньше, которые уже просохли. Иди. Беги… – она закрыла дверь и подойдя к кровати, предложила: – Вот немного вина. Выпей глоток, единственное, чем мы располагаем.
Она поддержала темную голову на коленях, заставляя выпить немного вина из стакана, которое окрасило загорелые щеки. Мягко она отодвинула влажные и вьющиеся волосы ото лба и вытерла пот своим платком, и неизведанное чувство, как огромное счастье, почти ослабило его:
– Моника, я должен сказать тебе кое-что, и не прошу твоего ответа. Мне нужно сказать… О, Моника! Ты плачешь?
– Плачу я? – пыталась отрицать Моника, скрывая нежность. – Какая глупость! Почему я должна плакать?
– Не знаю. Иногда я ничего не знаю. Я грешу невежественностью или запутался.
– Будет лучше, если ты закроешь глаза и попытаешься отдохнуть. Если то, что ты должен сказать – условные знаки скрытого сокровища на каком-то острове, подожди, когда старший помощник твоего корабля привезет их. Классика, не так ли? Наследство пирата Хуана. Тебе так нравится больше? Ни Бога и ни Дьявола.
– Моника, я не отвечал тебе, как должен был. Иногда у меня ощущение, что я веду себя с тобой как дикарь. Я попросил тебя ничего не отвечать мне. Слушай только меня, слушай, и если тебе не понравится слушать, то забудь. Я буду бесконечно благодарен тебе в любом случае, лишь бы ты не уходила. Не говори ничего. Я хочу представлять, что сам отвечу на то, что хотел бы от тебя услышать.
– Могу я узнать, что ты хочешь, чтобы я ответила? – спросила Моника, не в силах сдерживать волнение.
– Вот бинты и горячая вода. Капитану хуже?
Сегундо посмотрел в глаза Моники, влажные от слез, затем на землистое, бледное лицо Хуана, на кровь, пропитавшую белую рубашку и, встревожившись, посоветовал:
– Нужно сменить бинты, хозяйка, рана снова открылась!
И с мастерством солдата Сегундо принялся менять повязки, в то время как Моника приблизилась к распахнутому над морем окну и вдохнула свежий воздух, который, казалось вернул ее к жизни.
– Сегундо, где Моника? – спросил Хуан слабым и тихим голосом.
– Вон там, у окна, смотрит на море, капитан. Вы хотите что-то сказать ей?
– Нет. Не мешай ей. Послушай, Сегундо, если ты любишь женщину больше жизни и думаешь, что она любит другого и рядом с ним может быть счастлива, ты будешь удерживать ее? Ты бы последовал печальной судьбе, только бы видеть ее рядом, слушать, чувствовать, мечтать иногда, что она полюбит тебя? Ты бы это сделал, Сегундо?
– Не знаю, как правильно ответить вам, капитан. Но я… Какое значение может иметь женщина, которая не любит? Не знаю, ответ ли это, но…
– Это ответ, Сегундо. Ты ответил.
Упавший духом Хуан закрыл измученные веки, будто отягощенный внезапной усталостью. Сегундо закончил работу и сделал несколько нерешительных шагов, а Моника, ничего не подозревая, с вопросительным выражением приблизилась.
– Вот… Думаю, капитану нужно поспать. У него сильная лихорадка, и мне кажется, он бредит. Он должен бы… успокоиться...
– Я останусь, Сегундо. Иди. Я побуду с ним.
Долгое время Моника ждала, а затем приблизилась к кровати. Издали она смотрела на него до тех пор, пока ритм дыхания не стал размеренным, пока тот не стал казаться спящим. Тогда она приблизилась, сердечно глядя на него. Теперь она могла окружить его огромной волной нежности и невольно подумала, что под этим низким, жалким и треснувшим потолком, протекали очень горькие дни жизни этого человека, который не знал в детстве улыбок и ласк. Возможно, он был много раз болен в этих суровых стенах, и лишь Провидение хранило его жизнь. Как же ей хотелось склониться над темной головой, покрыть поцелуями лоб, щеки, теперь бледные губы, убаюкать на руках, словно он снова стал ребенком. Она хотела быть рядом, дышать тем же воздухом, каким дышал он. Ее колени подогнулись, и она съежилась рядом с ним, у его обнаженной шеи, и прошептала:
– Хуан… Если бы ты любил меня…
Уставшая и измученная, мгновенно провалившись в сон рядом с ложем Хуана, Моника через некоторое время поднялась с жесткого пола. Все еще не отдохнувшая, она подошла к окну, открытому настежь. Маленькая смуглая тень шевелилась около камней, и Моника упрекнула:
– Что ты делаешь там, Колибри? Почему не спишь? Что с тобой?
– Со мной ничего. Я здесь на случай, если вы позовете. Я не могу уснуть, потому что очень жарко. Надо же, какая жара. Небо опять стало другим, хозяйка. Заметили?
Колибри приблизился к окну с другой стороны, оперся о раму, в которую вцепилась Моника. Наивным взглядом огромных глаз он рассматривал небо, переполненное красноватыми облаками, густыми и пузатыми. Небо висело так низко, что казалось огромной парусиной, накрывшей суровый пейзаж, такой туманный, что не видно было даже вершин гор. Моника не подняла головы. Ее глаза смотрели вдоль дорог, тревожно искали по рядам солдат. Сердце замерло, не увидев экипажа Ренато. И с беспокойством она спросила у Колибри:
– Сеньор Ренато уже уехал, да?
– Да, хозяйка. Уехал, а охрана уже дважды сменилась. Внизу рыбаки чинят большую лодку… – и понизив голос, начал объяснять таинственным голосом: – Они никому не хотят говорить. Хотят выйти оттуда в море, а когда будут на другой стороне, то подложат бочку пороха между рифов, под лагерь, где находятся солдаты, и зажгут фитиль с длинным шнурком, чтобы все погибли.
– Но это преступление, настоящее убийство, которое Хуан никогда бы не разрешил!
– Они не хотят, чтобы хозяин узнал. Они вне себя, так как ранены, и один из четырех раненых вчера, брат Мартина, уже умирает.
– Они добьются, что нас всех убьют! Только этого они добьются!
– Это же Сегундо сказал Мартину, а тот ответил, что ничего не имеет значения, если он отомстит за брата, потому что кровь – самое важное на свете. А Сегундо ответил, что ему больше всех важен капитан, чем вся его семья вместе взятые. Что капитан больше, чем брат, больше, чем отец. И я сказал, что это правда, потому что капитан спас жизнь Сегундо, и еще мне, хозяйка. Вы плачете?
– Нет, Колибри, только размышляю.
– О чем, хозяйка? Капитану плохо, поэтому?
– Нет, Колибри, не думаю, что настолько плохо. Думаю, нет ничего хуже чудовищной ненависти, которая иногда проливает кровь между братьями, нет ничего хуже злобы, которая может подняться в наших близких.
Взволнованная, она повернулась и посмотрела на Хуана. Среди теней, окутавших мрачную хижину, она будто увидела глаза, яркие губы, белые руки, неясные очертания, которые заполнили все, завладевая Хуаном, заставляя ее отступить, словно восстало непреодолимое прошлое, разделяющее ее с мужем, которого она любила, и тихо побежали слезы. Горючие слезы самоотречения, которые столько раз она проливала.
12.
Каталина де Мольнар опять села в кровати, испуганно прислушиваясь к глухому звуку приближающихся барабанов, раздававшихся всю ночь. В слабом свете лампады, милосердно поставленной у подножья царившего в спальне образа, распространявшей по комнате теплый трепещущий свет, бледный отблеск которой словно усиливал тоску, переполнявшую сердце матери. Она подошла к окну, выходящему на галерею. Все нескончаемые часы этой ночи она безуспешно звала служанок, теребила шелковые кисточки, висевшие на кровати. Теперь же нечто вроде детского ужаса подпрыгнуло к горлу, на миг погасив ее скорбь, и она позвала высоким голосом:
– Петра, Хуана! Никого нет что ли? Боже мой! Что это? Что происходит? Отец Вивье!
Проходившая неподалеку тень заботливо приблизилась. Это был священник, вынужденный гость в роскошном доме Кампо Реаль, бледное похудевшее лицо казалось таким же беспокойным, как лицо Каталины де Мольнар, и он спросил:
– Каталина, что с вами? Что происходит? Хотели чего-то?
– Нет; сначала тишина, а потом… потом этот шум, музыка… Недостойно, что работники празднуют, когда цветы еще не засохли на могиле моей дочери!
– Музыка, которую вы слышите, Каталина, – это не праздник. Я хорошо знаком с песнями этих людей, и это не праздник, наоборот.
В полумраке галереи Каталина де Мольнар приблизилась к священнику. С непреодолимым страхом они наблюдали за странным хождением темных очертаний.
– Это ритуал похорон, и в то же время… Слушайте, Каталина, слушайте хорошо, они говорят… Послушайте… Да… Говорят странные слова на африканском языке, но это означает одно. Единственное, что я понимаю из того, что они произносят. Это означает месть. Эти люди жаждут мести. И к тому же что-то несут, похоже, это носилки с трупом.
– Кого? Кого?
– Не знаю, не могу разглядеть, дочь моя. Все это так странно.
– Позовите кого-нибудь, Отец. Служанки не отвечают, а дом полон слуг.
– В доме никого нет. Мы совершенно одни, Каталина.
– Совершенно одни? Что вы говорите, Отец? Я знаю, что Моника уехала, но остальные…
– Ренато сразу уехал, а сеньора Д`Отремон тоже не замедлила с отъездом, забрав Янину и самых верных слуг.
– Мне страшно, Отец! Мы должны вернуться в столицу, должны уехать, должны…
– Я уже думал об этом, но не у кого попросить экипаж.
– А Баутиста?
– Не знаю. Я видел, как он рано ушел с группой вооруженных работников, которых называет охранниками. Боюсь, весь мир будет против него; если бы сеньора Д`Отремон слушала меня, то ограничила бы его беззаконие и жестокость.
– Семья Д`Отремон, семья Д`Отремон! – бормотала Каталина с болезненной яростью. – Из-за них умерла моя дочь, умерла моя Айме! Увезите меня отсюда, Отец Вивье, я не хочу ступать по этой земле! Хочу уехать подальше от этого дома, чтобы не видеть и не слышать их больше!

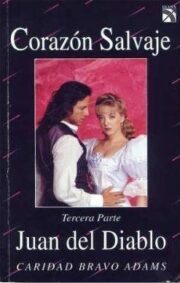
"Хуан Дьявол (ЛП)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Хуан Дьявол (ЛП)". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Хуан Дьявол (ЛП)" друзьям в соцсетях.