Как в фильме, подумалось мне. Я презирала его и, в то же время, любила.
— Пойдем, — сказал он. — Поехали к тебе.
— Я страшно хочу есть! У меня целый день во рту маковой росинки не было!
— У меня тоже, — сказал он.
Мы отправились обедать.
— Ты знаешь, почему я уехал?
— Нет.
— Я уехал, потому что ты была права — тебе действительно все время приходится меня ждать. Да еще с этим отпуском все так неудачно получилось.
Я промолчала.
— И случилось кое-что еще более неприятное, потому-то я и уехал… Дело в том, что я вообще никуда не могу сейчас поехать! В Розенау у нас серьезные проблемы с персоналом. А мой отец, с тех пор как узнал о наших отношениях, отказывается помогать мне. Раньше он бы обязательно помог. Но не сейчас.
Нет, никогда не нужно уступать этим людям там, где они этого требуют.
Моя жертва, на которую я пошла, отпустив Симона на отдых с женой, обеспечив себе самой каких-то несчастных пять дней совместного с ним отпуска, оказалась совершенно напрасной. Он послал к черту все наши с ним отношения, которые должны были стать «делом всей его жизни», из-за парочки клиентов, которые в этот выходной день могли вообще не появиться. Все это было нестерпимо унизительно. Почему я терплю эту гротескную несовместимость наших стилей жизни, точек зрения, ценностей, масштабов? Мы два совершенно разных мира, и я никак не могла понять, что же нужно сделать, чтобы изменить ситуацию. А, может, в этой несхожести и заключается та притягивающая нас друг к другу сила? В половине двенадцатого позвонила его жена; обменявшись с ней парой слов, Симон положил трубку.
— Она сказала: «Извини, что я тебе позвонила».
Он молча уставился перед собой в одну точку с ничего не выражающим лицом. Непрочность ситуации он пытался зацементировать ложью. И нехватка персонала в Розенау, как я уже поняла, тоже была очередной ложью. Он просто не хотел — или не мог — уехать со мной, оставив здесь Бритту.
— Почему ты все время врешь? — спросила я напрямик. — Почему не можешь найти в себе мужества хоть раз в жизни сказать правду, несмотря на то что тебе это неприятно?
— Я не привык к этому, — просто сказал он. — Когда в течение стольких лет врешь по любому поводу и тебе нужно это делать, чтобы, например, избежать затяжных супружеских ссор, то потом уже не можешь вот так вот взять и сразу измениться. Это просто не получается. Может быть, со временем…
Мы обессиленно повалились в кровать. Я снова выкурила сразу три сигареты. После пяти лет воздержания я опять начала курить, так как это приносило моим измученным нервам хоть какое-то облегчение.
Перспектива как провести следующий год с этим мужчиной, так и потерять его казалась мне одинаково удручающей. Ни первое, ни второе не казалось достойным выходом из ситуации.
На поддержку Янни я уже вряд ли могла рассчитывать, как в профессиональном отношении, так и в личном. Внутренне я стояла среди руин, а снаружи на меня непрерывно сыпались различные предложения. Пресса требовала интервью, телевидение просило об участии в ток-шоу, постоянно звонили журналисты и редакторы, предлагая совместные проекты, у всех были на меня свои виды. Все ожидали моего участия — и обманывались в своих ожиданиях. Вся моя энергия была направлена на личную жизнь; все, чего я достигла за последние годы, было поставлено на карту.
На следующий день позвонила мать Симона. Она тоже была в курсе наших дел.
И в ней я тоже почувствовала непонимание и враждебность. Она определяла ситуацию как катастрофическую и требовала от меня, как от зрелой и ответственной женщины, покончить со всем этим. Она подробно описала положение Бритты и ее чувствительность и то, как им едва не пришлось вызывать врача после моего вчерашнего визита.
— Зачем вы вообще к ней поехали? — как минимум три раза за разговор спросила она у меня высоким, страдальческий голосом.
— Я так воспитана, что когда сталкиваюсь с трудностями, то стараюсь их обсудить и решить, а не закрывать на них глаза.
— Да что вам нужно-то от нее? — взвизгнула она и уже своим голосом сказала: — Ради Бога, оставьте нашу семью в покое!
— Я, по крайней мере, за всю свою жизнь не наврала столько, сколько ваш сын за один год, — сказала я. — И вам следовало бы извиниться передо мной за то, что высказывания вашего сына я, по неопытности, принимала за чистую монету.
— Мы здесь ни при чем! — возмущенно воскликнула она. — Мой муж и я — мы за всю жизнь никого ни разу не обманули! И мы никогда не учили его лгать!
Она все упрашивала меня прекратить, наконец, отношения с ее сыном.
— Этого я пообещать, к сожалению, не могу, уважаемая фрау Шутц.
Конец беседы.
Телефонный разговор с Симоном.
Он пытается получить помощь для Розенау. По его словам. И дюжину женщин на воскресенье. По его же словам.
Вечером велосипедная прогулка — по его инициативе, какой прогресс! — в Штаузее. Беседы о карме, инкарнации, профессии, шансах в жизни и о том, что они выпадают человеку, пожалуй, не чаще двух-трех раз за всю жизнь.
Симон хотел изучать биологию и химию, а его отец настаивал на цветочном бизнесе. Традиции и авторитет победили.
Симон метался между долгом, ответственностью и сочувствием к Бритте — сочувствием, которое, пожалуй, все-таки, было замешано на любви и какой-то внутренней связи, и стремлением к другой, желанной жизни, мир человека в которой шире и богаче, жизни, для которой он не сделал ровным счетом ничего и не собирался делать. Собственно говоря, у него не было для этого никаких сил.
Все это он сделает для своего ребенка, которого ждет от Бритты. У Симона был еще один ребенок, мать которого он оставил еще во время беременности, но забота о том малыше ограничивалась лишь выплатой алиментов да периодическими посещениями из чувства долга.
Так же он боялся, что я не выдержу, что мое состояние становится все хуже, что я не смогу больше переносить те удары, которые еще могут свалиться на нашу голову. И что, в конце концов, я вынуждена буду уйти — или ему самому придется это сделать, — и что в один прекрасный момент для нас обоих все станет еще хуже. Или что, может быть, это случится уже в январе, когда появится ребенок.
— Я тогда буду там гораздо нужнее, ты понимаешь меня? — говорил он. — Потому что, когда родится ребенок, Бритте нужна будет моя поддержка…
Он даже не заметил, как больно он мне сделал этими своими рассуждениями.
Так же как не заметил и того, что его поведение и высказывания выдавали в нем косность, которая, в свою очередь, побуждала его на почти бессознательном уровне к защите семьи, условностей и всего буржуазного порядка.
В начале лета я начала выслеживать его везде, где только можно. Под покровом темноты я подкрадывалась к его дому, чтобы убедиться, что он сказал правду относительно своего местопребывания — или, наоборот, иметь возможность уличить его во лжи. Я делала это для того, чтобы наверняка знать, что является правдой, а что — нет. Свою интуицию в этих вопросах я, как казалось мне, потеряла. Меня раздражала моя бездеятельность, чувство парализованности. Я курила и пила и направляла свою агрессию против себя самой. Нужно нарушить правила игры, думала я.
В половине второго ночи он поднял трубку.
— Я не слышал звонка… — сказал он.
Его ложь доводила меня до безумия. Именно в это время я начала повсюду за ним шпионить как непосредственно, так и по телефону. Мой контроль за ним усилился и стал сродни насилию. Я прямо-таки впала в какую-то маниакальную жажду справедливости, и порог моей терпимости опускался тем ниже, чем был уровень ответного противодействия.
Янни сказал мне как-то раз:
— Я не знал ни одной женщины, которая предоставляла бы мне столько свободы, как ты!
Сколь сильно изменились времена! И сколь сильно поведение человека зависит от поведения его партнера. Я делала контрольные звонки, пряталась в кустах, подкарауливала за углами домов, играла в Шерлока Холмса и временами даже находила это все довольно интересным, хотя, конечно, очень ребяческим. Стыд и срам — почти в сорок лет!
В первый раз я подловила его, когда он поехал к своей жене, сказав при этом, что ему нужно к врачу; в другой раз я увидела его абсолютно нормально выходящим из кафе-мороженого, при том, что утром он, чтобы не ехать со мной в город, отговорился растяжением связки.
— Мне просто стало гораздо лучше к вечеру, — сказал он тогда, хотя еще утром разыграл на моих глазах целое драматическое представление по полной программе: тут была и внезапная слабость, и стоны от боли и необходимость срочной перевязки. Целая комедия вместо одного простого «нет». Очевидно, ложь давала ему своеобразное чувство уверенности в себе. С ее помощью он напускал туману, создавал вокруг себя темное облако и, как рак-отшельник в свою раковину, придумав себе иное лицо, образ, прятался за него. И всегда до последнего настаивал на своих выдумках, которые сами по себе были столь чудовищны и дешевы, что я воспринимала их даже не столько как унижение своей чести и человеческого достоинства, сколько как оскорбление интеллекта. Когда я начинала загонять его в угол, он продолжал оспаривать правду и мою версию до тех пор, пока не оказывался припертым к стене окончательно. И только тогда, когда я уже знала всю правду и могла доказать ее, на его лице появлялось виноватое выражение и он начинал придумывать и оправдание своей лжи, и обоснование ее необходимости. Я чувствовала себя словно в каком-то лабиринте и уже начала сомневаться в своем рассудке и в реальности. Я не могла уже воспринимать эти его игры в прятки с прежним юмором. Он постоянно изворачивался и все отрицал, кроме тех случаев, когда я ловила его на месте преступления; тогда он малодушно начинал бормотать что-то, опять же в свое оправдание. Это был просто трусливый слабак. В первое время я чувствовала себя карающей матерью-победительницей, абсолютно справедливо выслеживающей шкодящего сына. Но, по большому счету, это ничего не дало, кроме кратковременной ясности в некоторых вопросах и подтверждения некоторых догадок.
— А не станет ли человек неинтересен, если будет абсолютно прозрачен для окружающих? — вполне серьезно спросил он меня как-то раз. Вот лаконичный комментарий Бенедикта, которому я рассказала об этом вопросе:
— Это какая-то дурацкая цель — все время быть таинственным… — сказал он, слегка растерянно. Он не мог понять, почему взрослый человек так в этом нуждается. Я тоже не могла этого понять. Это казалось мне остаточным явлением переходного возраста.
Я неподвижно лежу на поле, в борозде. Ночь. Одна лишь луна льет неясный свет на землю.
Лай собаки. Такое ощущение, что он звучит со всех сторон. Это он погнал меня через заболоченный луг на занесенное илом после весеннего разлива поле. Какая-то шавка, не то, чтобы очень большая, но на редкость агрессивная.
И я, знаменитая Лена Лустиг, обращена в позорное бегство маленькой собачонкой. В голове проносятся молитвы ко всем богам, чтобы эта скотина не нашла меня. Я прошу об этом Раму, Вишну, Яхве, Аллаха, кто там еще есть?.. Обычно я редко вспоминаю о богах, даже о своем, католическом, но теперь они мне остро необходимы. Я представляю себе волков с ужасными желтыми клыками. Смертельная борьба. Окровавленные части тела. Я лежу, боясь пошевелиться, надеясь, что, может быть, она наконец потеряет ко мне интерес.
Притворяюсь мертвой. Грязная, нижнебаварская тина в полевой борозде. А еще вчера — двухспальная кровать в анфиладе комнат кельнского отеля. Шестьсот марок за сутки. И тут я, Лена Лустиг, известная певица, актриса, вне себя от страха закапываюсь в землю. Очень смешно.
«Когда я стояла перед выбором стать мне террористкой или капиталисткой, во мне возобладали идеализм с гуманизмом и я осталась в кабаре и купила себе норковую шубку…»
Норковая шубка. Хорошо бы она сейчас смотрелась в этой тине.
Я ведь только хотела подсмотреть, чем он там занимается со своей женой! Но тут на меня напала эта псина, загнала в луга и погнала дальше, как будто я хотела кого-то убить.
Кажется, что лай собаки приближается; что-то долго она не может меня найти. Насколько хорошо собаки видят в темноте? Так ли хорошо, как и кошки? Я об этом не имею ни малейшего представления.
Лена Лустиг, я, Лена Лустиг, пресмыкаюсь перед какой-то собачкой. Перед брехливой, паршивой собачонкой.
Я, выразительница тенденций девяностых годов.
Я, королева.
Я, квалифицированный немецкий клеветник.
Я, настоящий шоу-ураган.
Никакого впечатления на собаку это не производит. Она ровным счетом ничего не смыслит ни в иронии, ни в словесных изысках. И вряд ли от нее удастся откупиться автографом. Предками этой собаки были волки. Хищные. Кровожадные.

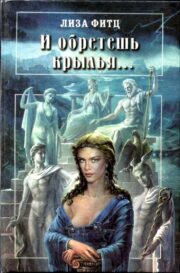
"И обретешь крылья…" отзывы
Отзывы читателей о книге "И обретешь крылья…". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "И обретешь крылья…" друзьям в соцсетях.