— Твой ход, Гермес…
Гермес нарочито зевает.
— Нет у меня ничего… Чертовы карты!
— Что с вами случилось? Вы что, устали? — спрашивает Зевс.
— Ммм… Вчера слишком много амброзии выпили… — отвечает Дионис.
— Это точно, — бормочет Аполлон. Да еще то ангелочки с самого утра резвятся, то арфа стонет часами!.. Доконают меня эти небеса! Ни тебе бури, ни тебе натиска… А как надоела эта заря каждый день!
— Невыносимо!
— Это точно! И всегда слишком рано!
— Главное, слишком ярко!
— Да-а, детки, — говорит Зевс, — тысячелетий у меня за плечами побольше вашего будет, а вот выгляжу я посвежее… Ладно, на сегодня, пожалуй, хватит!
— Все равно у меня одни дамы… Четыре штуки! — говорит Гермес. — Держи, Зевс, червонную я тебе дарю. Преврати ее в женщину, что ли — может, интереснее будет! Ха! Ха!..
— Нет уж, увольте, слышать ничего не хочу о женщинах! — недовольно бурчит Громовержец.
— А что такое? С Герой проблемы?
— Да здесь-то нет. А вот, гляньте, что на земле творится! Там все бабы как с ума посходили — строят из себя невесть что, поотбирали у мужчин их профессии, мелют всякую чушь с глубокомысленным видом! Просто ужас!
— Господи, папочка! Да устрой ты им пару «урожайных» лет — появятся дети, и проблема отпадет сама собой! — располагаясь поудобнее, предложил Дионис.
— Это все ненадолго, — брюзжит Зевс. — Когда-нибудь их земная жизнь закончится, и тогда снова прощай, мой покой! Хватит с меня Геры с ее блажью насчет эмансипации!..
Он наклонился вперед и протянул сыновьям золотую подзорную трубу.
— Вот… Сами убедитесь!
Аполлон лег на живот и подполз к краю спиральной галактики, Гермес сел рядом и раздвинул облака по сторонам.
— Смотрите на Европу, мальчики… Центральную. Германия — довольно многообещающая страна…
— А сколько их там? — прогнусавил Гермес. — Еще совсем недавно было две!..
— Оставьте в покое политику, — прервал его Зевс, — взгляните на женщин!
— Ладно уж!
Аполлон, приложив к глазам трубу, молча смотрит вниз. Прикладывает еще раз, после отдает Гермесу. У того вырывается сдавленное:
— О…о!…
— И правда! — восклицает Аполлон. — Ни в чем не стесняются! Нахальные речи, дерзкие лозунги… выглядит все это омерзительно. Вот, взгляни, Дионис!
— А я что говорю! — недовольно откинулся назад Зевс. — Одна меня особенно бесит!.. Наведи-ка трубу на Баварию, номер 9804203-й, пол женский. Удручающее зрелище! Это переходит все границы. У нее три, нет, даже четыре мужчины — просто какая-то бесстыдная полиандрия! А это, между прочим, многовековая мужская привилегия!..
— Хо-хо!.. — возмутился Дионис. — А ведь чем дальше, тем больше, папочка! Так скоро ни одной привилегии у мужчин и не останется…
— А я видел ее по телевизору! — восклицает Гермес.
— Конечно, ведь она всю эту женскую придурь еще, так сказать, несет в массы!
— У меня идея… — хитро ухмыльнувшись, сказал Дионис.
— Надо думать! Ты ведь издавна это племя с ума сводишь!.. Говори, сын мой!
— Там, внизу, я знаю одного парня, это как раз то, что нам надо… и совсем близко! Моя мамочка им в свое время очень интересовалась — великолепный тип, просто похотливый самец, с почти полным отсутствием чувства ответственности! И женат, что весьма подхлестывает страсть!
— А! И один из нас вселится в него и охмурит объект так, что она потеряет слух и зрение?!
— И разум? — вставил Гермес. — Прежде всего разум!..
Расставив ноги пошире, Дионис согласно кивнул.
— От всего этого феминизма и следа не останется, когда мы ее оттрахаем!..
— Дионис, прошу тебя!!
— Ох, извини, папочка!
— Да, идея хороша… — радостно рассмеялся Зевс.
— По мне тоже! — говорит Дионис. — Вопрос только в том, кто из нас вселится в этого парня?
— Как всегда тот, кто первый спросил, любовь моя! — В дверях возникла Гера. Среди богов воцарилось неловкое молчание.
— Ну-ка, мои любимые, тут я поспорю с вами: уверена, что не выйдет у вас никого сломить — женщины сильны духом, а их выносливость даже больше, чем они думают. Я держу пари на одну ночь с Гефестом, моим маленьким хромоножкой! Приручите эту женщину, и я на ваших глазах пересплю с ним!
— Ох, бесстыжая!.. — встрял Гефест, который до сих пор молчал.
— Но, мамочка, это, все-таки, твой сын!!
— Заткнись, пожалуйста, Гермес, не встревай.
— Хотел бы я на это посмотреть… — рассмеялся Зевс, — на редкость забавно! Не каждый день такое увидишь! Итак, поспорили! Дионис, спускайся на землю! Войди в этого человека и передай ему свою божественную харизму — в ней залог нашего успеха.
— Доконай эту бабу! — горланит Гермес.
— Да, покажи ей! — кричит Аполлон.
— Окрути ее! — шепелявит Гефест.
Все возбужденно кричат, топочут, и под восторги богов Дионис в эту грозовую ночь спустился вниз в виде молнии и превратился в Симона Шутца, из Нижней Баварии, Брукмюля.
— Эй, Дионис, — крикнул вслед Аполлон, — смотри внимательно, чтобы не нарваться опять на продувную дамочку, как в 259 году.
Но Дионис его уже не слышал — яркой точкой выскользнул он за пределы галактики…
Между тем Зевс удобно устроился на своем троне, с наслаждением закурил трубку и открыл книгу Лены…
Лена
Если бы семя могло говорить, оно пожаловалось бы на то, как мучительно прорастание.
Я всегда была слишком послушным ребенком. Несмотря на то что матерюсь как сапожник, а мои непристойные шутки приводят всех в ужас. И пить я могу как сапожник! Я споила уже достаточное количество мужчин и никогда больше ничего о них не слышала. Мои письменные откровения служат причиной семейных раздоров, а когда я веду словесную дуэль, то соперник долго еще не может после нее опомниться. Но уж когда я люблю, то люблю со всей той дьявольской силой, которую посеяла у меня в крови бабка-венгерка, — это больше, чем воплощение, это полное, вплоть до бесчувствия, самоуничтожение, какое только можно представить. Моя любовь — это бомба, на которой взрывается сам взрывающий: я взлетаю на воздух вместе с ним и потом долго собираю себя по частям.
До полового созревания я была примерным ребенком и мирилась с тем, что вследствие постоянных отлучек родители совсем меня забросили. Я терпеливо переносила разнообразных и постоянно меняющихся персон, которых нанимали для заботы обо мне и одновременно для поддержания порядка в доме. Среди них были пьяницы, клептоманки и просто сомнительные личности, что довольно скоро выяснялось, а также, конечно, честнейшие и тучнейшие тетки и, наконец, Датти, няня с двух до девяти лет моей жизни. Ужасна была смерть моей Датти — она замерзла в снежную бурю в горах и тело обгрызли лисы. То, что осталось, мы захоронили в пластиковом пакете.
Все беспорядки, связанные с постоянной сменой прислуги в доме, улаживались дедом с бабкой. Дед был поэт и юморист, бабка — оперная певица. Они были высшей инстанцией в домашней иерархии; это они планировали мою жизнь.
Наша фамилия Лустиг, что значит «веселый».
И это действительно весело, поскольку мы — семья комедиантов в трех поколениях, и я как раз третье! Фамилию точнее, чем Лустиг, для нас просто придумать трудно. Лично я никакую другую носить не хотела бы.
И несмотря на это я была весьма трагической фигурой!
Именно потому, что была слишком послушным ребенком. Еще бы! С тех пор, как я начала немного соображать, я всегда старалась выглядеть младше, чем была на самом деле и не могла еще почувствовать собственной силы. Пожалуй, что я ее сама побаивалась и старалась скрыть, потому что я женщина. Женщины не должны быть сильными. Никогда, и сейчас тоже, когда безмозглые болтушки, разряженные как новогодние елки, все еще путают цепкость рук с силой характера.
Некогда я узнала тайну мужчин и женщин: женщины сильны, но должны выглядеть слабыми; мужчины слабы, но им нужно выглядеть сильными.
Это положение не нравится мужчинам, но тем не менее это так.
Мужчина чувствует себя в этой жизни комфортно, пока у него все в порядке с потенцией. А как только у него уже не стоит, он сразу теряется. Как только ситуация с женщинами выходит из-под контроля — это конец! Мужчина просто олух, если не в состоянии подчинить женщину, так он полагает. Эта мысль преследует его на протяжении всей жизни.
Меня зовут Лена. Собственно говоря, моя мать хотела не девочку, а мальчика. И мальчик, которого она завела-таки тремя годами после меня, был действительно желанным ребенком. Чего не могу сказать о себе. Я окрестила себя Ленцем, чтобы мама почувствовала в доме что-нибудь более или менее мужское, потому что мой брат Лоренц умер через три дня после своего появления на свет. С тех пор мое имя — Ленц, и все друзья зовут меня только так, и «Лена» я только для телевидения и на сцене.
Родилась я в Цюрихе прохладным сентябрьским днем, незапланированная, не говоря уже о том, чтобы быть желанной. На любовь решились уже потом. Зов природы, как-никак! Выразился он в том, что меня стали кормить грудью. Процесс кормления вызвал к жизни материнские чувства; отцовских не припоминаю.
Кроме того, я была рождена преждевременно, с плохим резусом и слабой печенью — к сожалению! Я узнала потом, что дети с плохим резусом всегда рождаются преждевременно и, как правило, не выживают, это если они первенцы и женского пола. О переливании крови тогда еще ничего толком не знали.
Итак, я не умерла и по сей день считаю это своим величайшим достижением, что придает мне уверенности в себе. Не могу точно припомнить, однако полагаю, что я тогда очень хотела наружу. Наверное, живот матери стал уже тесноват и мне захотелось узнать, что происходит снаружи. Преждевременные роды явились следствием этого.
Итак, когда я появилась на свет, за плечами у меня было восемь месяцев в материнской утробе и я была так красна и скрючена, как бывает только в этом возрасте. Отец был разочарован, а я отправилась в инкубатор для недоношенных детей. Как патрон в гнездо. Роды прошли легко и наполовину уже в такси. Мама вдохнула веселящего газа и смеялась так, что у нее лопнул околоплодный пузырь и забрызгал всех врачей. А как только они сказали «Ого!», она захохотала еще больше и выхохотала меня!
На четырнадцатый день меня отправили домой, нацепив на лицо специальную маску, чтобы меня не просквозило по дороге. Иначе я все-таки преставилась бы.
К тому времени, как мне исполнилось полтора года, я сменила семь нянек.
Первой была Хильда, похожая на карлика, совсем маленькая и скрюченная, которая, кажется, очень меня любила и все время возилась со мной. А мама девять месяцев кормила меня по семь раз днем и ночью, что подчеркивает всегда как особую заслугу.
Эту первую, Хильду, домашние называли Электрическим Карликом, почему Электрическим, этого я не знаю. И о следующих я тоже ничего не знаю. Помню только, что одна из них, которая была вегетарианкой, усадила меня на втихомолку приготовленный ночной горшок, и у меня на попе были красные круги, и я орала как резаная.
И тут, наконец, когда мне уже было полтора года, появилась Датти. Это была типичная нянюшка в белом халате и белой наколочке. У Датти было спокойное, дружелюбное лицо с глазами цвета озера в горах, при этом все-таки она была строга. Особенно тщательно следила она за моим умыванием и чисткой зубов. А когда я спрашивала: «Почему?», она всегда отвечала: «Потому». Мама относилась к ней прохладно, она была слишком великосветской, этакой дамой от искусства со своими причудами; к тому же Датти мало интересовали выкидыши и переживания моей матери, хотя она об этом никогда не говорила. Она просто сжимала зубы и работала. А душа — это просто выдумка поэтов. У самой Датти не было детей, только старая, восьмидесятилетняя мать-тиранша, которую она все цитировала. А еще у нее был роман с летчиком, но тот разбился.
Иначе не была бы она постоянно детской нянькой; а конец ее, как я уже сказала, был ужасен. Они с подругой ушли в горы и были застигнуты там снежной бурей. И хотя обе неплохо ориентировались в горах, но тут просто не знали, что ближайшая деревня всего в пяти километрах ходьбы, опустили руки и сели. Обе тут же замерзли. И их обгрызли лисицы, обеих, ту старую даму и мою Датти. А то, что осталось после лисиц… впрочем, об этом я тоже рассказывала.
Датти была у нас лет восемь или что-то около того, и каждый год я ездила с ней в Тироль. В Оберау мы жили у дедушки Сандблихера, а фрау Сандблихер была его женой, получала пенсион и была довольно-таки строга. У дедушки Сандблихера были белые волосы, и он всегда сидел на скамеечке возле дома со своей длинной трубкой, закругляющейся на конце. Он рассматривал горы и размышлял о своей жизни или колол дрова и рассказывал мне истории. Он никогда не говорил сердито, всегда очень мягко и всегда по-тирольски. Когда я слышу слово «уютный», я вспоминаю о нем, а при слове «домомучительница» — о его жене. Фотографию с дедушкиных похорон я вклеила в свой альбом, а на его жену мне глубоко наплевать.

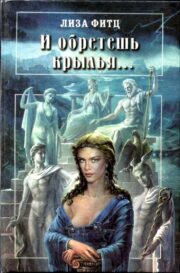
"И обретешь крылья…" отзывы
Отзывы читателей о книге "И обретешь крылья…". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "И обретешь крылья…" друзьям в соцсетях.