Я и не ожидала, что возможность представится так быстро. В день, когда мы с мамой приехали домой после барбекю, я заснула на доставшейся мне от Эвелин кровати с балдахином. Меня разбудили знакомые звуки: поворот папиного ключа во входной двери, мамины шаги в прихожей, поздний ужин и разговоры на кухне.
Однако в этот раз я не услышала обычных фраз вроде «счет за электричество», «водопроводчик», «этот зараза-сосед опять поставил машину так, что к дому не подберешься». Сегодня речь шла о телефонном звонке и деньгах, и мамин голос непонятно отчего звучал радостно.
— Дождемся утра, Нэнси, — произнес папа.
— Но ведь это замечательно, Том, — отозвалась мама.
Она вошла в мою комнату поделиться новостью, которая отнюдь не показалась мне замечательной:
— Умер дядюшка Эдди.
Я увидела стоящего в коридоре папу, маму у моей кровати и дядюшку — в своем воображении. Это был папин дядя, холостяк, который жил один в съемной квартире.
— О… — только и смогла ответить я.
Мы с папой частенько навещали дядюшку Эдди. Он обожал телевикторины и угощал меня шоколадными конфетами из большой коробки. У меня всегда сжималось сердце от жалости, когда я представляла, как он смотрит по телевизору шоу «Цена удачи».
— Ничего замечательного, мама. — У меня дрогнул голос.
Она откинула мои волосы и бросила взгляд на папу — так она смотрела на него всякий раз, когда у меня дрожал голос. Однажды я услышала, как мама сказала ему: «Подумай только: у таких крепких орешков, как мы, родился такой нежный цветок!»
Действительно, в отличие от меня они с папой были крепкими орешками, но не по своей воле. В маминой семье любили выпить, ни один из ее четырех братьев ни разу не приходил к нам в гости. Отца воспитала овдовевшая мать — моя бабушка, — которая не разгибая спины работала в благотворительной больнице, чтобы платить за крохотную квартирку. А за тридцать лет службы в полицейском управлении Нью-Йорка мой папа насмотрелся ужасов.
«Дети в наши дни такие избалованные», — твердили отец с матерью. В их глазах любой, кто ел три раза в день и имел двоих работающих родителей, был избалованным.
— Знаю, Ариадна, — сказала мама. Она упорно называла меня полным именем. — Но он сделал для нас доброе дело. Оставил нам все свои сбережения — сто тысяч долларов. Теперь ты можешь выбрать любой колледж, который тебе по душе, а осенью мы переведем тебя в Холлистер.
Итак, я могла выбирать любой колледж, а осенью меня ждал Холлистер.
Я не знала, как сказать маме, что не хочу переводиться. Куда мне до таких девиц, как Саммер, которые получали отличные отметки, не открывая учебника, и не выходили из дому, если туфли не гармонировали с сумочкой. Пусть в моей школе — не такой престижной — меня в упор не замечали одноклассники, зато она была неподалеку. И по крайней мере меня любили учителя. Поэтому я втайне понадеялась, что родители забудут о Холлистере.
Спустя некоторое время они затихли у себя внизу, а ко мне сон все никак не шел. Я уселась у окна, смотрела на звезды в безоблачном летнем небе и старалась думать о дядюшке Эдди, о его сбережениях и о том, что ему некому было их оставить, кроме нас.
Глава 2
На похороны собралось больше народу, чем я ожидала. Кроме нас с родителями, Патрика, Эвелин и Кирана, были несколько дядюшкиных соседей и приятная пожилая женщина, которая шепнула отцу, что они с дядюшкой Эдди крепко дружили.
Саммер тоже пришла с матерью — вечно усталой, с копной всклокоченных каштановых волос. Хозяйка и управляющая предприятием выездного обслуживания «Банкеты от Тины», она сама готовила еду, загружала ее в белый фургон и развозила по всем пяти районам города. И всегда выглядела изможденной. Иногда мы с Саммер помогали со стряпней и ездили на приемы, где на кухне раскладывали фаршированные грибы по изысканным серебряным подносам.
Одетая в стильный, приличествующий случаю наряд, Саммер сидела рядом со мной. Я бросила взгляд на свое платье, в спешке выбранное на стойке с уцененной одеждой, мешковатое и мрачное. Когда я его покупала, мне было не до стиля. Я думала о дядюшке Эдди, о его одинокой могиле — ни жены, ни детей, ни единой близкой души рядом. Мне очень хотелось проявить сочувствие, и я написала записку о том, что значат для меня его сто тысяч долларов. Теперь я смогу поступить в колледж при Школе дизайна Парсонс на Манхэттене, о котором мечтала с двенадцати лет.
Конверт с запиской я держала в потных, онемевших пальцах. Я собиралась отдать его дядюшке Эдди, но не могла. От мысли, что нужно подойти к покойнику, дрожали коленки.
— Что это? — спросила Саммер, мотнув головой в сторону конверта.
Я сложила конверт вдвое и посмотрела на дядюшку Эдди.
— Он оставил нам кое-какие деньги. Знаю, по-настоящему поблагодарить его не получится, но мне очень захотелось написать письмо… — Я повернулась к Саммер. Она сидела, скрестив ноги, темные глаза внимательно изучали мое лицо. — Я такая глупая. Ведь он не сможет прочитать.
Она улыбнулась:
— Ничего ты не глупая. Ты добрая.
Я улыбнулась в ответ:
— Все равно не могу туда подойти.
— Почему?
— Потому что он мертвый. Мне страшно.
Она отбросила волосы за плечи.
— Не бойся мертвых, Ари. Они тебя не обидят. Бояться нужно живых.
Это она верно подметила. Что мне сделает дядюшка Эдди? И все-таки я продолжала сидеть и мять конверт.
Саммер взяла его из моих липких рук. Обняв меня за плечи, она прошептала:
— Хочешь, я отнесу? Мне не страшно.
Меня это не удивило: Саммер ничего не боялась.
— Я должна сама, — ответила я. Но так и не двинулась с места, ругая себя за трусость.
Саммер встала и протянула руку. Она и раньше делала что-то подобное. На вечеринке по случаю ее шестнадцатилетия я пряталась в ванной — не хватало смелости появиться перед собравшейся в гостиной толпой ее одноклассников из Холлистера. Саммер уговорила меня выйти и весь вечер оставалась рядом, представляя всем и каждому: «Моя лучшая подруга Ари». Я тогда подумала, что, возможно, не такая уж я и замухрышка.
— Вставай, — сказала Саммер, переводя взгляд с меня на дядюшку Эдди. — Сделаем это вместе.
После поминок я не поехала домой с родителями, а залезла на заднее сиденье «форда»-пикапа, принадлежащего Патрику. Мать решила, что последние несколько дней я слишком много сидела в своей комнате и мне нужно сменить обстановку.
Часом позже я помогала Эвелин разгружать посудомоечную машину на ее неопрятной кухне: устаревшая кухонная техника противного зеленого цвета, на стены лучше долго не смотреть, а то голова закружится: оранжевые цветы, большие листья и серебристые загогулины между лепестками. Как-то раз Патрик начал отдирать обои, но так и не закончил. Он служил в пожарной охране, а на выходных брал подработку: клал плитку, стриг газоны, словом, делал все, чтобы поскорее расплатиться за дом.
— Смотри, что я для тебя приготовила, — сказала Эвелин.
Она сунула мне пакет из кондитерской «Миссис Филдз», полный печенья с шоколадной крошкой — моего любимого. Значит, сегодня она пребывала в хорошем настроении. Такой — милой и заботливой, как раньше, — сестра мне нравилась; последние пять лет она все чаще становилась раздражительной и злой. «Грязные подгузники и опасная работа мужа кого угодно сделают брюзгой, — говорила мама. — Я ее предупреждала».
Худшие времена настали, когда родился Киран. Эвелин покрылась отвратительной сыпью, беспрестанно плакала и орала на Патрика. Маме пришлось консультироваться с отцом Саммер — врачом-психиатром. По его мнению, Эвелин страдала от послеродовой депрессии, и он порекомендовал отправить ее в Пресвитерианскую больницу на Манхэттене. Мы так и сделали, и сестра пролежала там два месяца.
Медицинская страховка Патрика не покрыла ее лечения; родителям пришлось обналичить несколько сберегательных облигаций. Они согласились с докторами, что Эвелин больше не стоит рожать, но моя сестра не слушала никого, тем более мать и отца. Между ней и родителями постоянно возникали стычки: по поводу плохих отметок, вульгарной одежды и пакета с марихуаной, который мама однажды обнаружила в ее комнате. Эвелин то и дело ругали: за то, что она меняет парней как перчатки, зато, что в пятнадцать лет самостоятельно отправилась к гинекологу за рецептом на противозачаточные таблетки…
Самая большая ссора произошла, когда в семнадцать лет сестра объявила о своей беременности. Отцовские губы сжались в тонкую белую полоску, а мать орала на всю округу. Она называла Патрика необразованным и безграмотным быдлом, говорила, что не переносит его акцент и ему повезло, что она не попросила кое-кого переломать ему ноги.
Я испугалась: а ну какие-нибудь головорезы и впрямь свяжут его, вставят в рот кляп, отметелят и бросят истекать кровью в районе Бед-Стай?.. Однако мама передумала прибегать к услугам преступников и сменила гнев на милость, когда Патрик и Эвелин отправились на медовый месяц во Флориду. По дороге из аэропорта родители приглушенными голосами говорили о том, что они сделали все, что могли, устроили Эвелин отличную свадьбу, потом мама засмеялась и сказала: «Теперь она — проблема Патрика».
Тогда я бросила на нее яростный взгляд: не к лицу матери считать дочь проблемой. И я не удивилась, узнав, что Эвелин ждет второго ребенка. Казалось, материнство помогало ей почувствовать, что она не просто девчонка, которая рано выскочила замуж и работает на полставки кассиром в супермаркете. Теперь она была организатором дошкольной группы, тренером по футболу, женщиной, написавшей разгромное письмо в «Хасбро», когда Киран едва не задохнулся, подавившись деталью пластмассового конструктора. К тому же со всех сторон то и дело доносились восторженные реплики: ах, какой Киран хорошенький, у него папин цвет волос и мамины изысканные черты лица!
Эвелин была потрясающе красива, даже имея лишний вес. В тот вечер в патио я любовалась тем, как заходящее солнце подкрашивает медью ее длинные вьющиеся волосы. Она была счастлива, сверкала белозубой улыбкой, от гортанного смеха сотрясалась ее грудь.
Смех Эвелин звучал и позже, когда зашло солнце и я сидела одна в комнате для гостей — будущей детской. Патрик засмеялся тоже, потом их голоса стали тише, превратились в бормотание и стоны, изголовье кровати застучало о стену. Сегодня я такого не ожидала, ведь срок у Эвелин перевалил за семь месяцев. Слушать это было невозможно, от криков Патрика сердце мое учащенно билось. Так кричат теннисисты, когда бьют по мячу.
Возможно, голова у меня разболелась от этого шума. Или в наказание. Ведь я наслаждалась звуками, которые издавал мой зять, испытывая то, что в нашем классе в шутку называли «организм».
Начиналась мигрень: перед левым глазом повисла пелена, поплыли причудливые фигуры. Аура, как сказал врач. Она возникала всякий раз от расстройства, переживаний или от громкого шума. «Не сдерживай эмоций, — учил доктор. — Они проявятся физически и перерастут в боль».
Я не слушала его советов. Мигрень всегда подступала одинаково: перед глазами пульсировала светящаяся ярко-красная паутина, которая не исчезала, пока не подействует лекарство.
Сегодня я была так занята мыслями о дядюшке Эдди, что забыла положить в сумку флакон с таблетками. Поэтому я отправилась в единственную в доме ванную комнату и обшарила шкафчик в поисках болеутоляющего, но нашла лишь туалетную воду Патрика да пузырек с экстрактом рвотного корня, который Эвелин давным-давно купила для Кирана. Она показала мне препарат на случай, если ребенок проглотит что-нибудь опасное, когда я останусь с ним одна. А еще заставила ходить с ней на занятия, где меня научили делать искусственное дыхание и определять перелом костей.
Головная боль все усиливалась, и я стала на коленки перед унитазом — вдруг вырвет. Рядом на полу валялась брошюрка «Как назвать малыша». Я пролистала ее: некоторые имена обведены кружком — исключительно женские. Сестра отказалась делать УЗИ, но была уверена, что носит девочку.
Имена, буквы, ярко-синие каракули Эвелин — от всего этого мне стало еще хуже. Я бросила книжицу и поднялась на ноги. Какой смысл стоять на коленях — все равно ничего не происходит, никакого позыва к рвоте… В поисках таблеток я пошла на кухню.
— Что случилось? — раздался голос Патрика.
Я обернулась. Он стоял в дверях кухни по пояс голый, на шее — золотой кельтский крест на цепочке.
— Пытаюсь найти аспирин, — пробормотала я.
Патрик откинул назад челку. Бесполезное движение. Соломенного цвета волосы упрямо падали на лоб.
— Опять голова болит?
Я кивнула. Он приказал мне сесть, сказал, что сам найдет аспирин — флакон спрятан на верхней полке, чтобы Киран не дотянулся.

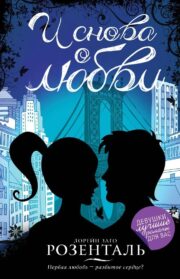
"И снова о любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "И снова о любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "И снова о любви" друзьям в соцсетях.