Итак, он молчал и даже избегал ее. Хотя они жили под одной крышей, он ухитрялся видеться с нею только за столом; и все же, словно провидение, он тайно оберегал ее. Он покидал плантацию только в те часы, когда жара удерживала ее в гамаке; вечером, когда она уходила на прогулку, он под разными предлогами оставлял Дельмара одного на веранде, а сам отправлялся к подножию скал и ждал ее в том месте, где, как ему было известно, она имела обыкновение сидеть. Он проводил там целые часы, поглядывая на нее сквозь ветви деревьев, слабо освещенных восходящей луной, но никогда не приближался к ней и не осмеливался нарушить хотя бы на мгновение ее печальную задумчивость. Когда она спускалась в долину, она всегда встречала его на берегу быстрого ручья, вдоль которого шла тропинка к их дому. Он ждал ее обычно, сидя на одном из огромных валунов, омываемых серебристыми струйками журчащей воды. Когда белое платье Индианы показывалось на берегу, Ральф молча поднимался, предлагал ей руку и доводил до двери, не произнося ни слова, если только она сама, чувствуя себя более грустной и подавленной, чем обычно, не начинала какой-нибудь разговор. Потом, расставшись с ней, он уходил к себе в спальню, но не ложился, пока все в доме не засыпали. Если Дельмар повышал голос, Ральф, воспользовавшись первым попавшимся предлогом, шел к нему и старался успокоить или отвлечь его, ни в коем случае не давая понять, что делает это намеренно. Их жилище по сравнению с домами наших краев можно было бы назвать прозрачным, и, чувствуя себя постоянно на виду, полковник невольно обуздывал свой нрав. Вечное присутствие Ральфа, при малейшем шуме появлявшегося в качестве третьего лица между ним и его женой, принуждало господина Дельмара сдерживаться, ибо полковник был достаточно самолюбив и умел взять себя в руки при этом молчаливом, но суровом свидетеле. Для того чтобы сорвать дурное настроение, накопившееся за день и вызванное различными неприятностями делового характера, полковник ждал, когда его строгий судья отправится спать. Но напрасно — тайное око, казалось, постоянно наблюдало за ним: стоило ему произнести резкое слово, стоило громко крикнуть, как тотчас же из спальни Ральфа доносился звук передвигаемой мебели или шарканье ног, и полковник умолкал, поняв, что осторожный и терпеливый покровитель его жены не дремлет.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
25
Смена кабинета 8 августа произвела большое смятение во Франции и нанесла жестокий удар благополучию Реймона. Он не принадлежал к числу тех слепых честолюбцев, которые радовались мимолетной победе. В политику он вкладывал всю свою душу, на ней строил все планы на будущее. Он надеялся, что король, вступив на путь искусных компромиссов, сможет еще долго сохранять в стране равновесие, необходимое для спокойного существования старинных дворянских семей. Но появление Полиньяка разрушило эту надежду. Реймон был слишком дальновиден и слишком хорошо знал «новое» общество, чтобы строить свои расчеты в надежде на временный успех. Он понял, что его благополучие пошатнулось вместе с монархией и что его состояние, а может быть, даже и сама жизнь, висит на волоске.
Он очутился в щекотливом и затруднительном положении. Честь обязывала его преданно служить королевскому дому, интересы которого были до сих пор тесно связаны с его собственными, несмотря на всю опасность такой преданности, — в этом отношении он не мог поступиться своею совестью и изменить памяти предков. Но, как человек осторожный и рассудительный, он не одобрял совершенно явно проявлявшегося стремления установить неограниченную монархию, — это, как он сам говорил, противоречило его внутренним убеждениям. Такое направление политики угрожало его карьере и, что даже хуже, выставляло в смешном свете его, известного публициста, который не раз смело обещал от лица королевской власти справедливое отношение ко всем и выполнение клятвенно взятых на себя обязательств. И вот теперь действия правительства полностью опровергли неосмотрительные заверения молодого политика; спокойные и равнодушные люди, еще два дня назад поддерживавшие конституционную монархию, переходили теперь в оппозицию и называли обманом все, что писалось Реймоном и его единомышленниками. Наиболее вежливые обвиняли их в непредусмотрительности и бездарности. Для Реймона было большим унижением прослыть простофилей после того, как он играл такую видную роль в монархической партии. В глубине души он начинал проклинать и презирать вырождавшуюся монархию, в своем падении увлекавшую его за собой. Ему хотелось бы отойти от нее до того, как наступит час решительной борьбы, но сделать это так, чтобы все приличия были соблюдены. В течение некоторого времени он прилагал невероятные усилия, чтобы завоевать доверие и того и другого лагеря. Тогдашние оппозиционеры охотно допускали в свои ряды новых сторонников. Им нужны были люди, а так как они не требовали от новообращенных особых доказательств преданности, то привлекли многих недовольных. Впрочем, они не гнушались также и представителями знатных фамилий, и ежедневно при помощи ловкой лести в газетах им удавалось привлечь на свою сторону наиболее видных приверженцев рушившейся монархии. Лесть эта не могла обмануть Реймона, но он не отвергал ее, так как был уверен в том, что сумеет извлечь из нее пользу. С другой стороны, защитники престола делались все нетерпимее, по мере того как их положение становилось все более и более безнадежным. Они беспощадно и необдуманно изгоняли из своих рядов самых нужных им людей и вскоре начали высказывать недовольство и проявлять недоверие по отношению к Реймону. Реймон, больше всего на свете дороживший своей доброй славой как одним из важнейших преимуществ в жизни, не знал, как выпутаться из затруднительного положения, но он — очень кстати — заболел острым ревматизмом и принужден был временно отказаться от всяких дел и уехать в деревню вместе с матерью.
В уединении Реймон страдал от сознания, что заживо похоронен и не может принять участие в лихорадочной деятельности распадающегося общества; что не может примкнуть к тому или другому лагерю, не только из-за болезни, но и потому, что затрудняется в выборе; что не может стать под развевающиеся повсюду воинственные знамена, призывающие к решительной борьбе даже самых незначительных и неспособных людей. Жестокие боли, одиночество, скука и лихорадка незаметно изменили направление его мыслей. Впервые, быть может, он задавал себе вопрос: стоит ли высший свет тех усилий, которые он прилагал для того, чтобы снискать его благоволение? Видя, как все равнодушны к нему, как быстро были забыты его выдающиеся способности и слава, он осудил высший свет. И хотя его надежды были обмануты, сознание, что он смотрел на общество лишь как на средство к достижению своих корыстных целей и что он достиг их только благодаря самому себе, утешало Реймона. Ничто не укрепляет так эгоизма, как подобные рассуждения. Реймон пришел к выводу, что для счастья светского человека необходимы удача и в общественной и в личной жизни, и победы в свете, и семейные радости.
Мать, самоотверженно ухаживавшая за ним во время болезни, сама опасно заболела. Настал его черед забыть о своих недугах и позаботиться о ней, но это было выше его сил. Сильные и страстные натуры в минуты опасности становятся выносливыми и выказывают чудеса стойкости, но слабые и вялые люди неспособны на такой душевный подъем. Хотя Реймон и был, по мнению общества, хорошим сыном, у нега не хватило физических сил, и он не вынес такого напряжения. Прикованный к постели, видя у своего изголовья лишь слуг или немногих друзей, изредка навещавших его и спешивших скорее окунуться в водоворот общественной жизни, Реймон вспомнил Индиану и искренне пожалел о ней, ибо сейчас она была ему очень нужна. Он вспомнил, с какой трогательной заботой она ухаживала за своим старым ворчливым мужем, и представил себе, какой нежностью и вниманием окружила бы она своего возлюбленного.
«Если бы я принял ее жертву, — размышлял он, — она была бы опозорена, но какое значение имело бы это для меня в настоящее время? Я не был бы теперь одинок. Пусть легкомысленный, эгоистичный свет „покинул бы меня“, та, от которой все отвернулись, сидела бы, любящая и преданная, у моих ног; она плакала бы вместе со мной и облегчала бы мои страдания. Зачем я оттолкнул эту женщину? Она так любила меня, что счастье, которое она подарила бы мне, заставило бы ее забыть о людском презрении».
Он решил, что непременно женится, как только выздоровеет, и принялся перебирать в своей памяти имена и лица, обращавшие на себя внимание в буржуазных и аристократических салонах. Восхитительные видения проносились в его мечтах: красивые головки, украшенные цветами, белоснежные плечи с накинутыми на них боа из лебяжьего пуха, стройные талии, стянутые атласными и муслиновыми корсажами; пленительные призраки реяли на прозрачных крыльях перед тяжелым, лихорадочным взором Реймона. Но он представлял себе этих пери только в благоуханном вихре бала. Очнувшись, он спрашивал себя, могут ли их розовые губки улыбаться не только кокетливо, могут ли их белые ручки врачевать душевные раны, могут ли они, при всем своем тонком и блестящем уме, утешить и развлечь измученного тоской больного? Реймон был человеком рассудительным и потому больше чем кто-либо другой опасался женского кокетства и ненавидел эгоизм, так как отлично понимал, что такие свойства характера не могут принести ему счастья. Выбрать себе жену было не менее трудно для Реймона, чем прийти к определенным политическим убеждениям. Одни и те же причины побуждали его не торопиться и действовать осторожно в обоих вопросах. Он принадлежал к строгой аристократической семье, не простившей бы ему неравного брака, а между тем прочным состоянием владели теперь только плебеи. По всей вероятности, буржуазии суждено было прийти на смену дворянству, и, чтобы сохранить за собой главенствующее положение, нужно было стать зятем промышленника или биржевика. Реймон считал, что самым разумным было бы подождать и посмотреть, откуда дует ветер, прежде чем решиться на шаг, от которого будет зависеть все его будущее.
Эти практические размышления ясно показали ему, что чувство в светских браках играет ничтожную роль; поэтому надежду найти себе когда-нибудь спутницу жизни, достойную любви, он мог основывать только на счастливой случайности. Пока что болезнь затягивалась, и надежда на лучшее будущее не могла уменьшить страданий, испытываемых в настоящем. Он пришел к печальному выводу, что был слеп в тот день, когда отказался похитить госпожу Дельмар, и теперь проклинал себя за то, что не понял своей собственной выгоды.
Как раз в это время он получил письмо, написанное Индианой с острова Бурбон. То, что Индиана, несмотря на несчастья, которые, казалось, должны были сломить ее, сохранила непоколебимую и мрачную силу духа, произвело на Реймона огромное впечатление.
«Я неправильно судил о ней, — подумал он, — она по-настоящему любила меня, любит и сейчас; ради меня она готова совершить геройские подвиги, на какие обычно неспособны женщины, и, может быть, стоит мне сказать только слово, и она прилетит ко мне с другого конца света. К сожалению, для того, чтобы это проверить, потребуется шесть, даже восемь месяцев, а то бы я обязательно попробовал!»
Он заснул с этой мыслью, но вскоре проснулся от суматохи, поднявшейся в соседней комнате. Он с трудом встал, надел халат и еле дошел до спальни матери; госпоже де Рамьер было очень плохо.
Только утром к ней вернулись силы. Она понимала, что ей осталось жить недолго, и последними ее мыслями были мысли о будущем сына.
— Во мне вы теряете вашего лучшего друга, — сказала она ему. — Молю бога, чтобы взамен меня он послал вам достойную вас жену! Но будьте осторожны, Реймон, и не жертвуйте ради честолюбия спокойствием всей вашей жизни. Увы, только одну женщину хотела бы я назвать своей дочерью, но небо уже распорядилось ее судьбой. Однако, сын мой, Дельмар уже стар и немощен,
— кто знает, может быть, длительное путешествие окончательно подорвало его силы. Уважайте честь его жены, пока он жив, но если, как мне кажется, он вскоре последует за мной, помните, что на свете есть женщина, любящая вас почти так же сильно, как любила вас мать.
Вечером госпожа де Рамьер скончалась на руках сына. Горе Реймона было искренним и глубоким. Утрата его была так тяжела, что тут не могло быть места притворным чувствам или расчету. Мать была ему по-настоящему нужна, с ее смертью он лишился огромной нравственной поддержки. Он обливал горькими слезами ее восковой лоб и потухшие глаза. Он обвинял небо, проклиная судьбу и плакал также об Индиане. Он упрекал бога за то, что тот не дает ему должного счастья, поступает с ним как с обыкновенным смертным, лишает его сразу всего. Затем он усомнился в самом существовании бога, который так покарал его, и предпочел лучше отречься от него, чем подчиниться его воле. Соприкоснувшись с жестокой действительностью, все иллюзии Реймона рассеялись как дым, и в сильном жару он снова слег в постель, обессиленный и поверженный, как развенчанный монарх или падший ангел.

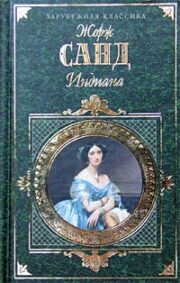
"Индиана" отзывы
Отзывы читателей о книге "Индиана". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Индиана" друзьям в соцсетях.