— Значит, ты писала ему проповеди, а он принимал их у тебя, не глядя?
— О, совсем не так. — Она покачала головой. — Он бывал всю неделю слишком пьян, чтобы что-то писать, но вот приходило воскресное утро, и если я совала ему в руки проповедь, то он соглашался пойти в церковь. И тогда он читал то, что я писала вечером накануне, обычно без выражения, монотонно, о Боге, о верности или еще о чем-нибудь с моральной подоплекой. Я писала то, что мне взбредет в голову. — Эмма смеялась над собой. -Иногда я писала сочинение на тему о гневе, который может испытывать мать семейства когда кто-то в ее семье постоянно пьян. — Эмма затихла. — Как бы там ни было, неизбежно он доходил до того места, которое сильно задевало его за живое, и начинал плакать. И вот тогда начинался полет. Настоящее чудо. Он откладывал бумажку и начинал говорить. Зак был прирожденным оратором. Он умел достучаться до каждого, кто находился в церкви. Он умел завоевывать доверие. К концу проповеди не оставалось ни одного человека с сухими глазами. Преподобный Хотчкис читал весьма трогательные проповеди. Наполовину моего сочинения, наполовину его импровизация. И все без исключения полные раскаяния и молитв о спасении.
Стюарт смотрел на нее.
— Все, кроме твоих. Твои глаза оставались сухими, не так ли?
— Мои глаза?
— Ты не плакала над его проповедями.
— Конечно, нет. — Эмма заморгала. Почему «конечно, нет»? И откуда Стюарт знает? И почему он спросил? — Я же сама писала речи. И знала, о чем там. И я хорошо изучила Зака. Я обычно заранее знала, какая точка будет отправной и куда она его приведет.
— Он не был ничьей жертвой. И не твоей в том числе, — вот все, что он сказал.
Эмма прижалась лбом к его груди.
— Я и так столько плакала над всеми своими обидами. Я плакала. Я как-то выживала. Нет смысла продлевать агонию.
— Это ты так считаешь, но Зак так не считал.
— Верно. — Она кивнула и затихла. Зак. Он любил это. Никто не смог с ним состязаться в той страсти, что он испытывал к боли.
Сейчас, здесь, внезапно на нее снизошло откровение. Она не могла лгать. Она должна была сказать все как есть. Потребность была настолько сильна, насколько сильна потребность исповедаться у невесты Христовой.
— Стюарт?
— Да?
— Я бы оставила его. Я не осталась бы с ним. — Она говорила то, чего не знала ни одна живая душа. Жена викария, уважаемый человек в деревне, готова была бросить мужа и бросить вызов всем и вся — своей кажущейся респектабельности. Она и ему сказала об этом. — Как только мы решили, что я не могу с ним остаться, он заболел. Очень серьезно. Я осталась, чтобы позаботиться о нем, зная, что он умирает. За несколько дней до того, как он умер, он сказал: «По крайней мере один хороший поступок я совершил — не стал в этом мире задерживаться слишком долго. Мне грустно, что это, пожалуй, единственный хороший поступок по отношению к тебе».
И тогда — вот так сюрприз! — она всхлипнула. Комок поднимался откуда-то изнутри, и остановить его было невозможно. Он должен был прорваться, вырваться наружу. Один, потом другой. И вот уже Эмма плакала, свернувшись в объятиях Стюарта. Она плакала минут десять, может быть, дольше. И плач ее было не унять. Как плач ребенка, которому сказали, что Рождество отменяется.
Откуда это взялось? Боль, злость, неутолимая печаль — не по человеку, который умер год назад, но по человеку, которого она знала как Зака какое-то — увы, недолгое — время. По тому человеку, которым Зак мог бы стать, который понимал, что он делал, понимал, кто он есть, понимал собственную неоднозначность. По человеку такому умному и талантливому, такому образованному, по тому, который по крайней мере и мог притворяться таким перед другими, и перед собой, и перед ней тоже. Она плакала потому, что обманулась в нем. Она была жертвой. Жертвой собственных заблуждений. «Я сама виновата». Она шептала эти слова вновь и вновь, уткнувшись Стюарту в грудь, намокшую от ее слез.
Стюарт обнимал ее за вздрагивающие плечи. Два нагих человека. Трудно представить нечто более ранимое, уязвимое, чем два нагих человека самих по себе, без той силы сексуальности, что превращает их в ангелов, богов и богинь.
— Ах, мы сироты, — сказал он, когда поток слез иссяк. Он обнимал ее и думал, что они — другие: ренегаты, ослушники — и им труднее, чем кому бы то ни было в мире, найти свое место. И он был прав.
Сироты. Все мы, сироты, любил говорить своим прихожанам Зак, и это были его слова, не ее. Сироты, ищущие дом. О, блудные дети, возвращайтесь домой. Он будет за вас молиться. Но для Эммы все это не годилось. Она оставила дом, чтобы найти Зака. И она оставила Зака, по крайней мере в том, что касалось эмоций. Оставила, потому что продолжать жить с этим было невыносимо больно. И она оставит Стюарта, хотя он еще не знает об этом. «Мы». Какое хорошее слово. Такое, что, казалось, она растает от нежности к своему плохо приспособленному к этому миру виконту.
Но почему она намеревалась его оставить? В этот конкретный момент она не могла сказать. Отчего-то ей больше не казалось, что остаться с ним — это плохо. Какое им дело до того, что скажут люди? Кому какое дело до того, что она была всего лишь маленькой овечкой в его стаде? Кому какое дело до того, что он от нее перейдет к следующей, а она останется жить с клеймом на заднице для всеобщего обозрения? Пусть все это случится. Разве ей под силу противостоять тому, что должно с ней случиться? Но сможет ли она все это выдержать? Смогла бы она оставаться с ним до тех пор, пока ему не надоест, а потом жить сама по себе, каждый день, каждый час надеясь на то, что он заглянет к ней хотя бы на минуту и она сможет урвать от него еще кусочек счастья? Смогла бы она продать свою гордость за эту, самую последнюю, секунду счастья?
Возможно. Эти секунды, каждая из них, были чертовски хороши. Так хороши, что, быть может, он не стал бы...
Эмма вовремя спохватилась. Жертва собственных заблуждений, она снова совершала ту же ошибку. Дважды одну и ту же ошибку совершать не стоит. Она знала, кто такой Стюарт Эйсгарт и к чему его может привести романтическое приключение с местной фермершей. Нет смысла продлевать агонию. Это ее же слова. Не надо доходить до конца, чтобы предвидеть, к чему все придет. Лучше жить так, как она жила до сих пор, как планировалось, и избавить их обоих от объяснений, вздохов, возможно, даже слез.
С тех пор как у нее появился Зак, а быть может, еще и до него, может, она всегда такой была. Может, она такой родилась? Эмма всегда была за то, чтобы не причинять никому, в том числе и самой себе, ненужную боль.
Утро давно наступило. Эмма лежала в постели у себя в номере, еще не до конца проснувшись, а рядом с ней спал, слегка похрапывая, голый виконт. И вот тогда она поняла. Она любит его. Нет, все эти слезы, что она пролила перед самым рассветом, оросив грудь Стюарта, были не по Заку, не по тому, кем бы он мог быть и не был, и даже не по ней, — по тому, что она хотела бы получить, но не получила.
Слезы ее, ее рыдания имели непосредственное отношение к мужчине в ее постели, высокому, красивому, поджарому. Одним словом, она плакала не по покойнику, а по живому. Она не могла его получить и, словно ребенок, рыдала из-за того, что не могла иметь того, что хочет. Она пробежала глазами по его длинному телу, задержавшись взглядом на том месте, где свесился, спящий, его пенис, и дальше, вниз, вдоль мускулистого бедра, с намотавшейся на него простыней, вдоль костлявой икры к ступне с высоким подъемом и длинными изящными пальцами. Стюарт был худ, поэтому любая одежда отлично смотрелась на нем. Он мог носить на себе много слоев всяких тряпок и при этом выглядеть элегантно. О себе она этого сказать не могла. И он мог быть еще худее, чем он был, и при этом оставаться красивым, ибо красивым было само его сложение.
Эмма смотрела на него, постепенно осознавая глубину своей к нему привязанности. Глубокой, до мозга костей. Привязана всей душой. И не только душой. Всем телом. Буквально. Каждая косточка в ней ныла от тоскливого сознания безнадежной любви. Словно сердце ее стало громадным, таким громадным, что не помещалось внутри и давило, болезненно давило на грудину. Да, слезы ее были по этому красивому, рафинированному аристократу, чей преступный отец женился на деньгах и кто, вне сомнения, станет ухаживать за девушкой высокого происхождения с настоящими титулами — и он имел на это право, а она, ныне фермерша, в прошлом воровка, не имеет ничего настоящего. Одно лишь притворство да платья, что он купил для нее.
Пока он этого не понимает. Но он обязательно поймет. Но он еще слишком плотно укутан страхом того, что его сердце недостаточно хорошее. Он сейчас на той стадии, когда человек ищет себя, когда ему не хватает самого по себе хорошего поступка, он еще и желает, чтобы поступок этот был совершен из чистосердечных побуждений. О, что за создание! Что за мужчина! Как она его любит!
Увы, она плакала оттого, что у нее нет иных причин, кроме единственной — любви к нему, которая могла бы побудить его остаться с ней навсегда, беречь ее, любить ее, жениться на ней. Она плакала еще и потому, что жизнь с Заком научила ее, крепко научила, без конца напоминая и подтверждая примерами, что нет ничего более неподходящего в качестве повода для брака, чем любовь.
Глава 16
Во время стрижки надо знать, куда надавить, чтобы овца вела себя смирно. Нажмите ладонью ей на бок, к примеру, и она вытянет ногу.
Эмма отправила Леонарду записку, в которой просила присоединиться к ней за завтраком, после чего заняла столик в дальнем углу, заказала чай и попросила официанта не беспокоить их, покуда она или ее друг не дадут знать, что они готовы.
Как только Леонард подошел к ее столу, даже не дожидаясь, пока он сядет, Эмма начала:
— Я так рада, что смогу минутку переговорить с вами наедине. Прошлой ночью... — Эмма осеклась и прижала руку к губам. Прошлой ночью... — Она отвела взгляд назад и вниз, демонстрируя смущение. — Я... я подумала о том, что вы сказали. О том, что Стюарт не с нами. Он не внес нужную сумму. Он пуглив, и я боюсь, что он кому-нибудь что-нибудь расскажет. — Она вздохнула, и пышная грудь ее сильно всколыхнулась. — Мы должны вывести его из игры.
— Вы так думаете? — У Леонарда от жадности чуть глаза из орбит не выскочили. От жадности и от радости, хотя, возможно, еще и от похоти. — Но почему? — Он был положительно заинтригован.
— Потому что я продумала все, что вы вчера сказали, — быстро ответила Эмма.
Леонард сел за стол.
— Что-то произошло, — прозорливо предположил он. Гусь лапчатый, он даже не дождался, пока объявят второй акт. Эмма подготовилась к тому, чтобы выложить ему всю историю — обрывочно, конечно, и весьма постепенно. Но он проглотил наживку немедленно. Эмме ничего не оставалось, как все ему рассказать. Не поднимая глаз, с
трудом выдавливая из себя каждое слово, она сказала:
— Вчера ночью я выгнала его из своего номера. Он...
— Почему вы не позвали на помощь? Я был прямо на против вас!
— Я не хотела устраивать сцену, — шепотом проговорила она. — Я думала, что сама смогу с ним справиться.
— Но вы не могли! — воскликнул Леонард. — Он сделал что-то насильно?
«Господи, Леонард, дай девушке все тебе выложить, окажи любезность».
— Почти, — сказала она, чтобы еще больше его завести. — Я была так напугана. Я не хотела устраивать скандал, понимаете? Он все-таки ваш племянник. — Она сочувственно ему улыбнулась — он видел, как она страдает и понимает, каково иметь такого родственника. — Плюс никто из нас не хочет привлекать к себе внимания. В любом случае в итоге я одержала верх. После... о-о-о... — Она отвернулась. Женщина, которая не способна посвятить его во все недостойные подробности.
— После чего?
Леонард привстал, опираясь ладонями о стол. Он хотел знать все!
Эмма покачала головой.
— Ничего, не обращайте внимания, — сказала ему скромница, болезненно краснея. — Суть в том, что мы должны вывести его из игры.
— Вы абсолютно правы. Вы и не подозреваете, насколько вы правы. Он представляет для нас угрозу. Он такой же, как его отец, мой брат. Мы должны...
Леонард все говорил и говорил. Она его не перебивала. Пусть выговорится. Итог? Она убедилась, что доверие Леонарда завоевано полностью. Он вляпался по самые уши. Он безоговорочно верил в то, что вот-вот станет настоящим богачом, при этом получит назад свою собственную статуэтку, да еще и Эмму в придачу. Он верил, что может обвести вокруг пальца своего племянника, которому страшно во всем завидовал.
Он сделал лишь один-единственный пас в сторону.
— Я в шоке, — с пафосом проговорил он, — что мой дражайший племянник оказался таким негодяем. Как вы смогли это выдержать? Что именно он делал... О, не говорите! Должно быть, вам больно вспоминать. Слава Богу, что он не осуществил своего намерения. И все же я никогда бы не подумал, что у Стюарта хватит наглости ворваться в спальню дамы. Не думал, что у него хватит на это духу.

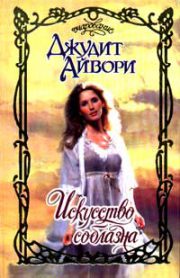
"Искусство соблазна" отзывы
Отзывы читателей о книге "Искусство соблазна". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Искусство соблазна" друзьям в соцсетях.