Рэй Бредбери
История одной любви
Эта история произошла тем летом, когда в гринтаунской школе появилась Энн Тэйлор. Ей тогда было двадцать четыре, а Бобу Сполдингу — всего четырнадцать.
Энн Тэйлор знали все, потому что таким учителям дети готовы хоть каждый день таскать гвоздики и огромные апельсины и без напоминания сворачивать в трубочку шелестящие желто-зеленые карты мира. Казалось, в те дни, когда от дубов и вязов на аллеи старого города ложатся зеленые тени, Энн Тэйлор всегда идет вам навстречу и на лице у нее играют солнечные блики, так что невозможно оторвать глаз. Она была, как спелый персик в заснеженную зиму, как холодное молоко в горячей овсянке жарким июньским утром. Энн Тэйлор была желанной противоположностью. И те дни в году, когда погода держится так же стойко, как последний кленовый лист на ветке, даже если на него со всех сторон с одинаковой силой дует ветер, вот такие редкие дни были похожи на Энн Тэйлор и в календаре так и должны были значиться — Дни Энн Тэйлор.
Что до Боба Сполдинга, то октябрьскими вечерами он всегда одиноко бродил по городу, и листья у него под ногами шуршали, словно мыши в Канун Всех Святых; а с весны, бледный, как брюхо рыбы, нерасторопной после подледной жизни, он лежал у терпкой речушки под Лисицыной горкой, поджариваясь на солнце, и к осени лицо его становилось блестящим и гладким, словно каштан. Иногда его голос доносился с верхушки дерева, где шелестит ветер; цепляясь за ветки Боб спускался вниз, на землю, и смотрел на мир, а потом, развалясь на лужайке, до самого вечера читал, и муравьи ползали по его книгам; или играл сам с собою в шахматы на бабушкином крыльце, а то садился за черное пианино, что стояло в эркере у окна, и подбирал какую-нибудь грустную мелодию. И всегда был один.
В то утро мисс Энн Тэйлор вошла в класс через боковую дверь, и дети замерли, когда она красивым круглым почерком вывела на доске свое имя.
— Меня зовут Энн Тэйлор, — спокойно сказала она. — Я — ваша новая учительница.
От ее слов на деревьях запели птицы, и класс наполнился светом, как если бы со школы слетела крыша. Энн Тэйлор начала урок. Через полчаса Боб Сполдинг, сжимавший в руке шарик из жеваной бумаги, медленно разжал руку, и шарик упал на пол.
А после уроков он принес ведро воды и тряпку и взялся тереть парты.
— Что ты делаешь? — она обернулась к нему, оторвавшись от тетрадей по правописанию.
— Что-то парты загрязнились, — ответил Боб, не прекращая работу.
— Ты что, всерьез собираешься их мыть?
— Извините, я не спросил разрешения, — сказал он и неловко запнулся.
— Будем считать, что уже спросил, — улыбаясь ответила она, и от этой улыбки он с молниеносной быстротой перемыл все парты и так яростно принялся стучать друг о друга суконными утюжками для вытирания доски, что в классе пошел снег — так, во всяком случае, казалось с улицы.
— Ты, кажется, Боб Сполдинг? — спросила мисс Тэйлор, пробегая глазами школьный журнал.
— Да, мэм.
— Ну что же, Боб, спасибо.
— А можно я каждый день буду мыть? — cпросил он.
— Но ведь есть и другие ученики.
— Не, лучше я сам. Каждый день. Я люблю их мыть.
Он все не уходил. Наконец, она спросила:
— А тебе не пора бежать домой?
— До свидания.
Он медленно направился к выходу и исчез за дверью.
На следующее утро он оказался возле дома мисс Тэйлор как раз, когда она выходила в школу.
— Вот и я, — сказал он.
— А знаешь, я не удивлена, — ответила Энн Тэйлор.
Они пошли вместе.
— Можно я понесу ваши книги?
— Нет, Боб, спасибо, не надо.
— Мне же не трудно, — сказал он и взял их у нее.
Несколько минут они шли молча. Она смотрела поверх его головы и на него, немного сверху вниз, видела, как ему хорошо, как он счастлив, и ждала, что он заговорит, но он так и не проронил ни слова. У школьного двора Боб вернул ей книги.
— Лучше мне оставить вас здесь, — сказал он. — А то ребята могут не так понять.
— Боюсь, я тоже не совсем понимаю, — сказала мисс Тэйлор.
— Почему же? Мы просто друзья, — серьезно и искренне ответил он.
— Знаешь, Боб… — начала она.
— Да, мэм?
— Нет, ничего, — сказала она и пошла прочь.
— Я буду в классе, — крикнул он ей вслед.
И в течение двух недель он всякий раз оставался после уроков, карты сворачивал, вытряхивал мел из суконных утюжков и не спеша мыл парты, а она проверяла тетради; и в классе стояла тишина часов, не смевших пробить четыре, и тишина солнца, скользящего вниз по медленному небосклону, и было разве что слышно, как с губки, вытиравшей доску, стекает вода, да как глухо стукаются друг о друга суконные утюжки, когда из них выбивают мел, да шелест переворачиваемых страниц, да скрип ручки, да гневное жужжание мухи, бьющейся в стекло под самым потолком. Иной раз такая тишина стояла до пяти часов, и только тогда мисс Тэйлор обнаруживала, что Боб сидит за последней партой, смотрит на нее и ждет указаний.
— Ну вот, пора домой, — вставая, говорила она.
— Да, мэм.
И он спешил подать ей пальто и шляпу. И вместо нее закрывал класс, если школьному сторожу уже ничего там не было нужно. Потом они выходили из школы и пересекали пустынный двор; сторож, стоя на стремянке, неторопливо снимал на ночь с перекладины цепочные качели, и закатное солнце просвечивало между листьями американской магнолии. Они говорили о всякой всячине, Энн Тэйлор и Боб.
— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
— Писателем.
— Вот это мечта! А знаешь, сколько работает писатель?
— Знаю. И все-таки попробую. Я ведь много прочел.
— Боб, а после школы… разве у тебя нет других дел?
— Как это?
— Я хочу сказать, может, тебе лучше бывать на воздухе, чем мыть эти парты?
— Так ведь мне это нравится, — ответил он. — Я никогда не делаю то, что мне не нравится.
— И все же…
— Нет, буду мыть, — отрезал он.
Потом подумал с минуту и сказал:
— Мисс Тэйлор, можно вас спросить?
— Смотря о чем.
— Каждое воскресенье я выхожу из дома — это около Буэтрик-стрит — и иду по речке к озеру Мичиган. Там столько бабочек, речных раков, птиц. Хотите туда пойти?
— Спасибо, — сказала она.
— Значит, идем?
— Боюсь, не получится.
— Знаете, как там хорошо.
— Очень жаль, но я буду занята.
Он хотел спросить, чем, но осекся. Потом сказал:
— Я беру сэндвичи. С ветчиной и солеными огурцами. Еще апельсиновую шипучку и иду неспеша. К полудню прихожу на озеро, а часа в три возвращаюсь домой. И день так приятно проходит. Жаль, что вы не можете. Вы собираете бабочек? У меня большая коллекция. Можно и для вас собрать.
— Спасибо, но теперь я не могу, в другой раз.
Он посмотрел на нее и сказал:
— Не нужно было спрашивать, да?
— Ты можешь спрашивать меня о чем угодно.
Несколько дней спустя она нашла у себя «Большие надежды» в потрепанном переплете. Книга была ей уже не нужна, и она подарила ее Бобу. Он ужасно обрадовался, взял роман домой и всю ночь просидел над ним, чтобы утром поговорить о прочитанном с Энн Тэйлор. Теперь он каждый день встречал ее недалеко от дома, но так, чтобы не заметили другие жильцы, а она много дней подряд собиралась сказать, чтобы он больше не приходил, и уже произносила «Боб», но не могла закончить фразу, и по дороге из школы и в школу он говорил с ней о Диккенсе, Киплинге, По и многих других. Однажды в пятницу утром Энн Тэйлор увидела у себя на столе бабочку и чуть не смахнула ее, как вдруг поняла, что пока ее не было в классе, кто-то сколол бабочку с булавки и положил на стол. Энн Тэйлор скользнула глазами поверх ребячьих макушек и остановила взгляд на Бобе. Но он смотрел в книгу. Не читал, просто смотрел.
После этого Энн Тэйлор уже не могла вызывать Боба к доске. Она заносила карандаш над его именем в журнале, а потом вызывала другого ученика. И больше не глядела на него по дороге из школы и в школу. Но после уроков, когда он высоко поднятой рукой стирал с доски математические знаки, она ловила себя на том, что изредка отрывается от тетрадей и по нескольку секунд задерживает взгляд на нем.
И вот однажды в субботу утром, стоя с закатанными по колено брюками посреди речушки и пытаясь вытащить из-под камня рака, он вдруг поднял глаза и увидел на бровке ручья Энн Тэйлор.
— Вот и я, — сказала она, смеясь.
— А знаете, я не удивлен. — ответил Боб.
— Покажешь мне своих раков и бабочек?
Они спустились к озеру и сели на песок, их мягко обдувал теплый ветер, трепал ей волосы и оборку на блузе. Они сидели немного поодаль друг от друга, торжественно поедали сэндвичи и запивали их апельсиновой шипучкой.
— Никогда еще не было так хорошо, — сказал он.
— А я никогда не думала, что отправлюсь на такой пикник.
— С каким-то мальчишкой?
— И все же мне очень приятно, — сказала она.
— Вот и отлично.
Потом они долго молчали. Наконец он сказал:
— Нет, что-то не так. Только не понимаю, почему. Мы просто гуляем, ловим раков, бабочек, сэндвичи едим. А ведь мои обсмеяли бы меня с ног до головы, если б узнали. Да и ребята тоже. А учителя? Неужели они не стали бы подшучивать над вами?
— Боюсь, что так.
— Знаете, давайте оставим бабочек в покое.
— Сама не понимаю, что меня сюда привело.
Так закончился день.
Вот, пожалуй, и все, что было между Энн Тэйлор и Бобом Сполдингом: две-три бабочки-данаиды, роман Диккенса, дюжина раков, четыре сэндвича и две бутылки апельсиновой шипучки. А в понедельник произошло нечто неожиданное: он долго стоял возле ее дома, чтобы как всегда вместе отправиться в школу, но так и не дождался. А придя в класс, обнаружил, что она уже там — значит вышла раньше обычного. Перед последним уроком она пожаловалась на головную боль, и ее заменила другая учительница. Весь вечер он бродил вокруг ее дома, но она не показывалась, а позвонить в дверь он не решался.
Во вторник после уроков они снова были вдвоем в тихом классе. Боб умиротворенно тер доску, словно этот день никогда не кончится, а Энн Тэйлор проверяла тетради, словно всегда будет вот так сидеть, и на душе у нее всегда будет покой и счастье. Вдруг на здании суда, находившемся в соседнем квартале, начали бить часы. Невозможно было не содрогнуться — от бронзовых ударов, казалось, пепел ушедших времен проникал в кровь, и человек, оглушенный звоном часов, летел по жизни, чувствуя, что стареет с каждой минутой. Когда пробило пять, мисс Энн Тэйлор внезапно подняла глаза и долго смотрела на часы; потом отложила ручку и сказала:
— Боб…
Он, вздрогнув, обернулся. Ведь за последний час покоя и счастья никто из них не проронил ни слова.
— Подойди сюда.
Он медленно положил губку.
— Сядь, Боб.
Несколько секунд она напряженно смотрела на него, пока он не отвел взгляд.
— Знаешь, о чем мне нужно поговорить с тобой?
— Да.
— Хочешь сам сказать?
— Он помолчал немного, потом произнес:
— О нас.
— Сколько тебе лет, Боб?
— Четырнадцатый.
— Тебе тринадцать.
Он поморщился.
— А знаешь, сколько мне?
— Да, мэм, слышал. Двадцать четыре.
— Двадцать четыре.
— Мне тоже будет двадцать четыре через десять лет, ну, чуть меньше, чем через десять, — выпалил он.
— Но сейчас тебе только тринадцать.
— Это верно, хотя иногда я чувствую себя на все двадцать четыре.
— Да, иногда ты и ведешь себя так, будто тебе двадцать четыре.
— Вот видите.
— А теперь, Боб, наберись терпения и не ерзай, нам нужно о многом поговорить. Сейчас очень важно понять, что происходит.
Он кивнул.
— Допустим, мы с тобой лучшие в мире друзья. Допустим, у меня никогда не было такого ученика, и ты мне нравишься больше всех мальчиков.
Он покраснел.
— Теперь я скажу за тебя, — продолжала она. — Я нравлюсь тебе больше других учителей.
— Не просто нравитесь!
— Возможно и не просто, но существуют вещи, на которые нельзя закрывать глаза. Кроме нас с тобой есть и другие люди. Я долго думала об этом, старалась как-то все взвесить, что ли… Понимаешь, Боб, ты очень добрый мальчик, и твои поступки вызывают уважение, но в жизни все же очень много значит возраст… Кажется, я не совсем ясно выражаю свои мысли?
— Да нет, ясно, — ответил он. — Вы хотите сказать, что я на десять лет младше и на пятнадцать дюймов ниже. Но разве можно судить о человеке по его росту?
— Мир думает иначе.

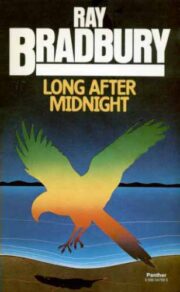
"История одной любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "История одной любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "История одной любви" друзьям в соцсетях.