— Может, он прав. Я так поглощена работой, что не могу никого полюбить. А может, я и не смогла бы жить ни с кем, кроме живого мертвеца. Он не мешает моей работе, уж этого ты не станешь отрицать.
— Не знаю, не знаю.
— Что ты хочешь этим сказать?
— В стихах ты пишешь о неудовлетворенности, одиночестве, грусти. Подумай, что бы ты могла написать, если бы действительно кого-нибудь полюбила! Как ты можешь так ограничивать себя? Замыкаться в этом удобном для тебя, но таком идиотском пророчестве?
— Мне так приятно разговаривать с тобой — с тобой и с твоими растениями…
— Послушай, красотка, только меня с собой не равняй. Я хочу жить одна. И не желаю иметь детей. Да и секс меня мало привлекает. Ты — совсем другое дело. Ты не папоротник, ты настоящее млекопитающее, черт тебя побери!
— Господи, я боялась, что ты скажешь сейчас что-то убийственное.
— Разве не убийственно то, что я сказала?
— Ты бы слышала, как меня обзывали!.. — сказала я.
Холли даже не улыбнулась. Она закурила и попыталась предпринять новую попытку донести до моего сознания свою мысль.
— Ну какой смысл тебе тянуть эту волынку? Да любой исход для тебя будет лучше нынешней неопределенности!
— Я думаю!
— Послушай, ну чем тебе не нравится моя жизнь? Ведь она мало чем отличается от твоей. Я работаю, встречаюсь с друзьями, хожу на вечеринки. И ты делаешь то же самое. Беннет — лишь довесок к твоей жизни, который порой просто мешает. Вот сегодня — ты даже не хочешь возвращаться домой. Невооруженным глазом видно, что не хочешь. Кстати, он-то сейчас где?
— Какая разница?
— А он знает, где ты?
— Скорее всего, нет.
— Значит, ваш брак — это фарс, подлог, спасательный круг. Вот тебе мое мнение, если хочешь знать, — и она выдохнула облако табачного дыма мне в лицо.
Я уже думала об этом. Холли права. Много общего в нашем образе жизни. С Беннетом я практически не вижусь. Причем, сознательно. Да и зачем он вообще нужен мне? Чтобы я могла говорить: «мой муж». Чтобы у меня был свой номинальный монарх, вроде английской королевы? Чтобы мне легче было под маской добропорядочности скрыть свой бунтарский дух? Чтобы лелеять иллюзию, будто я нахожусь под защитой мужчины?
Неожиданно я чего-то испугалась и решила, что пора домой. Я вдруг почувствовала, что должна находиться с Беннетом.
— Я пошла, — сказала я.
— Ну спасибо. Разбудила меня, разволновала, а теперь уходишь? Я думала, ты останешься ночевать. Я бы постелила тебе на кушетке.
— Не могу, — почему-то меня била дрожь. — Мне действительно надо идти!
— А он держит тебя на коротком поводке.
— Пожалуйста, пойми меня правильно. Ты ведь поймешь, да?
Холли выглядела обиженной, но она все понимала.
— А я собиралась приготовить на завтрак что-то такое, — сказала она. — Но теперь у меня нет для этого повода. — В довершение к своим многочисленным талантам Холли была еще и первоклассной поварихой, но ей не на кого было направить этот талант.
— Как-нибудь в другой раз, — ответила я.
В холле квартиры на 77-й улице горел свет. Кейс Беннета был аккуратно уложен на стул, а его владелец так же аккуратно уложен в постель, где он спал, не помяв простыни. Возвращение домой успокоило меня. Я мельком взглянула на Беннета, потом прошла к себе в кабинет, села на свой любимый кожаный стул и попыталась собраться с мыслями. Почему вид спящего Беннета так успокоил меня? И можно ли воспринимать это как повод продолжать совместную жизнь? Непонятно, почему меня преследовал какой-то панический страх, пока я не пришла домой и не увидела мужа (особенно если учесть, что в течение дня я занималась любовью с другими мужчинами).
Мой муж. Какое в этой фразе разлито безмятежное спокойствие! Почти как в словах «В Бога мы веруем!» или «Гуд хаускипинг» гарантирует».
Что же за волшебная сила таится в словосочетании «мой муж»? Это некий символ, одобрение и подтверждение того, что ты настоящая женщина. Своего рода софизм: «Посмотрите, у меня есть мужчина, значит, я женщина».
Ну зачем мне это нужно? Зачем нам всем это нужно? Среди моих знакомых всегда находились женщины, которые содержали семью, ходили на службу и выполняли всю работу по дому, — и все равно им нужен был муж, часто человек, который был им явно не по душе. Я знавала богатых женщин, для которых муж был лишь забавой, деловых женщин, которые воспринимали мужа как большого ребенка, примерных домохозяек, которые растили детей, вели хозяйство и одновременно спасали от полного разорения мужнину врачебную практику, коммерческое предприятие или магазин. Не было ни малейшего сомнения в силе и стойкости этих женщин — у окружающих, но не у них самих. Правда ли, что им так же нужен был этот символ — «мой муж», — как и мне? Правда ли, что им всем был так же необходим этот спящий мужчина, тело которого лишь едва примяло постельное белье?
Я много раз пыталась уйти от Беннета, но каждый раз возвращалась назад. И каждый раз, когда я возвращалась, все менялось к лучшему в нашей семье. Наш брак становился более свободным, открытым, менее ограниченным какими-то рамками. И вот теперь он стал настолько свободным, что, если я не приходила ночевать, Беннет ложился спать один. Но и это не устраивало меня. Как будто мы с ним чужие и судьба случайно свела нас под одной крышей. И наша свобода — это иллюзия. На самом деле мы не свободны — мы просто безразличны друг другу. Любовь предполагает потерю свободы, которая не воспринимается как потеря, потому что взамен приобретаешь то, что во сто крат ценнее и лучше.
Теперь я уже с трудом припоминаю, что заставило меня выйти за Беннета. Словно это случилось в другой жизни, когда я была совсем другим человеком. Мы становимся старше и неуклонно меняемся, так что даже в течение короткого земного пути в каждом из нас живут порой совершенно не похожие друг на друга существа. Душа — это не вещь, это процесс, поэтому ее нельзя упрятать в сундучок (или втиснуть в книжку), а сверху прихлопнуть крышкой. Она обязательно выберется наружу и будет видоизменяться вновь и вновь. Женщина, которая вышла за Беннета в 1966, так же отличается от женщины, сидящей сейчас на кожаном стуле, как та, что пережила безумное лето ревности и славы, отличается от писательницы, создавшей этот роман. Я все пытаюсь поймать себя в отдельные периоды жизни, но не могу, потому что даже в самый момент творчества я уже не вполне я. Время и литература изменяют меня. Я пытаюсь насадить осколки реальности на острие пера, но память подводит меня, меня подводят слова, и картина получается отрывочной и неверной. Хуже того, она может показаться читателю истинной правдой, и только я смогу понять, как много в созданной мною картине несоответствий и зияющих пустот, как много сознательных пропусков и как часто изорванные в клочья фрагменты выдаются за роскошный и целый гобелен.
Когда брак разваливается, возникает какая-то своеобразная гармония…
Многие считают, что цинизм требует мужества. На самом деле, цинизм — это верх трусости. Невинность и широта души — вот для чего мужество поистине необходимо: ведь нас чаще всего оскорбляют в наших лучших чувствах.
Когда брак трещит по швам, в отношениях устанавливается какой-то особый ритм, вроде того, который возникает во время ухаживания, только с отрицательным знаком. Пытаешься начать все с начала, но снова и снова срываешься на взаимные упреки и обвинения. Стороны измотаны в результате этих боев: в безнадежности и изнеможении возвращаются они к истоку, откуда начали свой скорбный путь. И тогда призывают адвокатов, чтобы те пришли и убрали трупы. Смерть наступила много дней назад.
Все, что я делала этим летом, было направлено на разгадку тайны нашего брака, хотя я лишь значительно позже это поняла. Первый признак бедствия для меня (как, впрочем, и влюбленности) — это полная потеря трудоспособности. Как ненормальная, шаталась я по друзьям, бросала, не закончив, одно дело и тут же хваталась за другое, стараясь не появляться дома, не подходить к письменному столу, не в состоянии есть, пить или спать.
И неудивительно, что меня вновь потянуло к Майклу Косману. Майкл был другом моей сломанной ноги, который скрашивал мне мучительные годы в Гейдельберге, другом, который отдавал себя до конца, взамен не пытаясь даже затащить меня в постель. И сейчас он был единственным, кто мог бы рассказать мне про Беннета и Пенни, — а мне страшно хотелось узнать обо всем, я жадно ловила каждую деталь. После откровений Беннета в Вудстоке я словно окунулась в прошлое, вспомнила Гейдельберг. Я перелистывала страницы жизни, как книгу, улетая мысленно в те далекие времена. Моя сломанная нога стала символом возникшего в наших отношениях с Беннетом глубокого внутреннего раскола, а Майкл помог излечить то, что Беннету ничего не стоило сломать.
Майкл Косман был врачом общей практики, для которого в армии не нашлось работы по специальности. Он опрыскивал помещения столовой какой-то дрянью от тараканов и выявлял контакты венерических больных, которые, в духе истинной демократии, частенько предлагали заразить и его. Армия постепенно доводила его до тихого помешательства, как, впрочем, и меня. Но его ответом на это были закрученные вверх пышные усы и марихуана, которую он выращивал в госпитале на заднем дворе (вместе с ноготками и анютиными глазками она образовывала надпись: «США-ЕВРОПА»), а моим — сломанная нога. (Существует ли разница между психологией женщин и мужчин? Риторический вопрос.)
Иногда мне кажется, что я могла бы рассказать свою жизнь по оставшимся на моем теле шрамам. Или даже написать целый роман, в котором героиня, стоя обнаженной перед зеркалом памяти, разглядывает следы прошлых ран и вспоминает, откуда они взялись, насколько сильную боль причинили, кто помог утолить эту боль, кто и как эти раны лечил. Рассказ о каждом из шрамов составил бы отдельную главу, и я бы поспешила сообщить читателю, что появление ран на теле героини — не простая случайность.
Я бы рассказала о переливающемся всеми цветами радуги шраме в форме полумесяца под правой коленкой, оставленном столь же переливчатым осколком ракушки, валявшейся на пляже Файер-Айленда в то лето, когда мне было восемь лет. Я бы поведала, как опустилась на колени в песок, не чувствуя, что в мою нежную детскую кость вонзаются острые края. Я встала, и ярко-алая кровь струей брызнула на белый песок. Или вот шесть бледных шовчиков на левой ладони — их оставил огромный кухонный нож, которым я лет в пятнадцать резала хлеб для сандвичей, чувствуя себя ужасно несчастной в роли официантки и кухонной прислуги в летнем лагере «Моррихилл» и мечтая попасть в изолятор, где можно спокойно устроиться с Диккенсом и почувствовать себя полным сиротой — вместе с Пипом и Оливером Твистом. Двенадцать сандвичей с желе и ореховой пастой так и остались в виде заготовки, потому что я неожиданно порезала руку: я зачем-то повернула нож лезвием к потолку и вместо белой пористой мякоти хлеба разрезала собственную белую плоть. На попе у меня можно нащупать странное уплотнение, след давнишнего синяка, возникшего сразу же, как только я на всем скаку загремела с норовистой лошади, словно нарочно подсунутой мне в клубе верховой езды. Мне еще повезло, что все ограничилось болью ушиба и я не лишилась ног. Слава Богу, что я приземлилась не на спину и мой ангел-хранитель спас меня от паралича, но я оказалась в военном госпитале и там, в середине 1966-го, мне открылась вся правда о неизвестной вьетнамской войне: за три недели, проведенные в госпитале, я вдоволь насмотрелась на обожженных напалмом вьетнамских детей и калек с по-детски невинными лицами.
Потом я бы вернулась на тридцать с лишним лет назад и рассказала о крохотной дырочке у меня на шее — она возникла еще в материнской утробе, но сохраняется до сих пор неприятным напоминанием о каких-то загадочных внутриутробных событиях. О шве, красующемся у меня над левым глазом с тех пор, как меня ударила током собственная пишущая машинка, столь же неотъемлемый атрибут творчества, как спорадические приступы отчаяния, в один из которых и случился этот эпизод. Историю едва заметного утолщения на левой голени я приберегу напоследок. Оно осталось после перелома, полученного в 1967-м на обледенелых склонах Цюрса. В то время Беннет был настолько увлечен Пенни, что ему была противна сама идея провести отпуск со мной. В отместку за неизвестно какие прегрешения он вынудил меня встать на лыжи тогда, когда склоны гор покрылись плотной коркой льда и были для меня почти непреодолимы.
Да, я могла бы поведать историю нашей с Беннетом жизни, вспоминая одни лишь неприятные моменты, которые нам довелось вместе пережить. И, что самое интересное, я всегда оказывалась в роли жертвы. А он, человек, который вечно чувствовал себя страдальцем и считал, что любое хамство с его стороны оправдано свыше, злился на меня за то, что мне не везет. Но этот эпизод переполнил чашу терпения, он один стоил всех остальных.

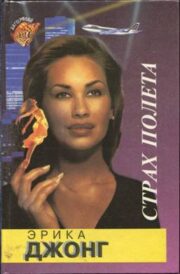
"Как спасти свою жизнь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Как спасти свою жизнь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Как спасти свою жизнь" друзьям в соцсетях.