Первые впечатления: Бритт Гольдштейн возлежит в желтом шезлонге, попивая джин с тоником, в то время как в номер меня впускает ее школьная подруга из Флэтбуша Сью Злотник. Это уже о многом говорит: она даже задницы не приподняла, чтобы поздороваться со мной. Она лежит, развалившись в шезлонге, и в разрезе халата от Бендела видны ее ноги, ухоженные в салоне Элизабет Арден. Она очень маленького роста (около 4 футов 10 дюймов), худая (никогда не доверяла худым), с огненно-рыжей гривой, ледяными глазами и вытянутым в узкую линию маленьким жестким ртом. Ее нос напоминает своим изгибом букву «S» (а может быть, полумесяц? или засохшую корку сыра?) — добрая половина евреек в Беверли-Хиллз обладает такими носами. (Если их все вместе сложить, получилась бы дорога обратно в Польшу — из Беверли-Хиллз). Но самое характерное в Бритт — это рот. Напряженные мышцы, растягивающие ее губы в улыбку, обнаруживают глубоко запрятанную подлость и полное отсутствие благородства. Судя по всему, выражающий ее жизненное кредо девиз («Без борьбы нет победы») не способствовал ее нравственному развитию.
— Привет, — говорит она сильно в нос, и ее голос напоминает жалкую пародию на выговор еврейской девушки из Бруклина. Наверное, в записи какого-нибудь лингвиста-диалектолога это выглядело бы очень забавно, что-то вроде «при-э-вет». — Это моя приятельница, Сью Злотник. А мы с ней как раз ударились в воспоминания.
— При-э-вет, — говорит Сью.
— Добрый день, — отвечаю я.
Мизансцена характеризует расстановку сил — как у Микеланжело на полотнах. Бритт по-прежнему возлежит, Сью теребит сумочку, я стою в неловкой позе возле шезлонга, пытаясь протянуть руку.
Вообще-то мне доводилось встречаться с разными людьми. Среди них были Нобелевские лауреаты, люди, ставшие живой легендой, мэры (если не президенты) и принцы (если не короли), и, откровенно говоря, в их присутствии я не испытывала ни малейшего смущения, но тут, с Бритт (которую в свои молодые и более снобистские годы за одно только произношение я стала бы презирать) — я вдруг растерялась. От нее исходила какая-то таинственная, магическая сила, что-то было в ней от дворового атамана, предводителя мальчишек, от эдакого доморощенного супермена: не обладая особой физической силой, она тем не менее так же умела подчинять себе. В ней чувствовался прирожденный победитель — и не потому, что она была умнее или способнее остальных, а потому что невооруженным глазом было видно: она способна на все. Одна ее бывшая подруга (насколько мне известно, все ее подруги оказывались бывшими в конце концов) позже рассказала мне, что как-то раз, еще в те времена, когда ей самой приходилось заниматься вполне земными делами, она выбирала ткань на занавес или на мебельную обивку и в тот момент, когда продавец отвернулся, она, и глазом не моргнув, слегка порвала материал, а потом потребовала скидку. Не будь я еврейкой, знакомство с ней сделало бы из меня антисемитку. Будь я мужчиной, она укрепила бы мое недоверие к женщинам. Если бы я была пожилым человеком, благодаря ей я бы окончательно разочаровалась в молодом поколении. Но я — это я, поэтому я отбросила прочь все сомнения относительно Бритт и стала жадно внимать тому, что она желала поведать мне про мою книгу.
Сью Злотник через некоторое время ушла. Мне показалось, что где-то я уже видела эту сцену, — как она, пятясь, выходит из гостиничного номера: так, должно быть, придворные выходят от короля, — но, возможно, память меня подводит. Так или иначе, она ушла — незаметно, смиренно. А Бритт продолжала с царственным видом восседать в шезлонге — правительница игрушечной страны, королева пластиковых кредитных карточек.
— Когда я впервые прочла вашу книгу, — начала она, — я поняла — это и моя жизнь. И тогда я почувствовала, что мы можем стать настоящими друзьями. — (Позже я осознала — частично благодаря Бритт, — что нельзя доверять человеку, начинающему деловой разговор с уверений в любви и дружбе. Чем меньше слов о дружбе, тем лучше. Чем больше слов, тем меньше надежды хоть когда-нибудь получить чек.) — Ваша книга представляется мне исповедью женщины, неожиданно открывшей для себя способ спасти собственную жизнь…
Представьте себе этот жуткий акцент и отвратительную гнусавость, помноженные на напыщенность слога и фальшивую глубокомысленность. А я, как дура, сидела и слушала ее идиотские разглагольствования о том, что еще час назад считала собственной книгой.
Она хотела приобрести права на экранизацию и назвала мне до оскорбительного низкую цену. Я сказала, что должна посоветоваться со своим агентом, и тогда она вдруг сбросила маску, на глазах превратившись в бандита с большой дороги. Никто больше не станет этого делать, заявила она, никто больше не претендует на этот роман. Мне бы тут же ответить: «Ну и что?» — но я испугалась, что тогда все мои кинематографические грезы развеются, как дым.
— Но если книга вам действительно так понравилась, то почему же вы считаете, что больше никто не захочет ее купить? — Одно то, что я приняла навязанный ею разговор, она немедленно расценила как признак слабости. Такие люди признают только нажим. У них можно требовать. Или просто взять и уйти. Но к сожалению, мне понадобилось еще два года, чтобы окончательно себе это уяснить.
— Я люблю риск, люблю, когда все решает случай, и вот теперь хочу поставить на вас.
Хочет поставить на меня! Это квинтэссенция ее стратегии. Она говорит мне — мне, чья книга разошлась миллионным тиражом, — что собирается поставить на меня! Она, видите ли, делает мне одолжение!
И, что самое удивительное, это сработало! Я вдруг начинаю нервничать, потеть, заранее паниковать. Я уже представляю себе этот величайший шедевр, нечто эдакое в стиле Бергмана-Феллини-Трюффо, — и боюсь, что все уйдет сейчас, как вода в песок.
— Вы не представляете себе, что сделают с вашим романом эти окопавшиеся в Голливуде мужские шовинисты. Да они просто угробят его. Со мной вы, по крайней мере, будете знать, что в любой момент можете вмешаться, вы сможете осуществлять авторский контроль…
Старая песня: авторский контроль. Отказываешься от денег, зато получаешь право на контроль. Голливудские штучки. Так изящно. Так интеллигентно. Потому что вам, конечно же, никогда не доводилось осуществлять контроль. Так что же, отказавшись от денег, вы получите? Ничего… А весь так называемый литературный мир тем временем обвинит вас в том, что вы «продались». Ох уж этот мне литературный мир! Он ненавидит неудачников и презирает успех. Он не уважает тех, чьих книг не читают, и испытывает патологическую ненависть к тем, чьи книги идут нарасхват. Тщетны попытки ублажить литературный мир. А Голливуд прост, прозрачен и чист, — если всеобщую продажность можно считать чистотой. Там важно только одно — деньги, деньги, деньги. Если у тебя много денег, ты хороший человек, и чем больше ты зарабатываешь, тем лучше ты кажешься остальным. А цель оправдывает средства.
Вот почему я имела все основания считать названную Бритт цену оскорбительно низкой. Это означало, что она презирает и мое творчество, и меня. Согласившись на такие условия, в дальнейшем я могла ждать лишь новых и новых унижений. Конечно, если бы я поднялась и ушла, она бы стала намного ласковее со мной, но моя мать воспитала меня в духе всепрощения. Если меня били по щеке, я подставляла другую; меня оскорбляли, а я чувствовала свою вину перед обидчиком. И Бритт, с ее инстинктом уличного заводилы, сразу раскусила меня.
— Послушайте, — сказала она, любуясь собой в маленькое зеркальце (она вечно любовалась собой), — я с тем же успехом могу обратиться к своему человеку, и он прекрасно инсценирует вашу книгу для меня. И чего уж в ней такого особенного?
Я не могла поверить своим ушам. Она полностью противоречила себе. Ведь только что она говорила, что в книге рассказана и ее судьба. Что книга просто уникальна. И вдруг — что ее легко можно переработать и, мол, ничего в этом сложного нет. Ну что мне помешало послать ее на х… тогда? Хлопнуть дверью и уйти. Страх? Ложно понятое чувство приличия? Или я просто поверить не могла в то, что человек может быть таким низким, таким подлым и вероломным?
— Мне нужно поговорить с моим агентом, — повторила я.
— Поговорите, — с безразличным видом сказала она.
И я поговорила. Единственное, что я упустила из виду, — это то, что мой агент был одновременно и агентом Бритт. Не знала я и того, что Бритт уже оповестила весь Голливуд, что моя книга у нее, — так что, мол, руки прочь. Бритт принадлежала к тому древнему классу евреев-торговцев, которые не без оснований полагали, что не обязательно покупать вещь — достаточно просто считаться ее обладателем. Так сказать, владение через оповещение. Все так боялись Бритт, что после такого заявления ни один из продюсеров ни за что не решился бы обратиться ко мне. Короче говоря, я была в западне. Я пыталась торговаться, но это ни к чему не привело. С тем же успехом кто-нибудь из первых христиан мог бы попробовать договориться с оголодавшим львом.
И вот обед с моим агентом, Элизой Рушмор. У нее приторно-сладкий голосок, крашенные прядями волосы и весьма оригинальные манеры: до того, как был распродан первый миллион тиража, она называла меня Изадора, после второго миллиона я уже была «любовь моя», после третьего я стала «сладость моя», а после четвертого — «моя драгоценная». Глаза бы мои на нее не глядели.
— Драгоценная моя, — сказала она (за обедом у Лорана), — мы всюду предлагали вашу книгу, но она абсолютно никого не заинтересовала, — говоря, она словно выделяла курсивом отдельные слова. — На самом деле, ее так трудно экранизировать. Все эти ретроспекции…
— Но в кино всегда бывают ретроспекции…
— Любовь моя, все сошлись на том, что изысканность стиля, юмор, если хотите, — все это осложняет дело. Самые лучшие фильмы неизменно получаются из плохо написанных книг. Как писателю это делает вам честь, но не делает более сценичным ваш роман, — с этими словами она выдавила из себя фальшивую кривозубую улыбку.
— Лично мне на этот наср…! Я совершенно не согласна на такую мизерную сумму за книгу, которая разошлась таким тиражом. Это оскорбительно, в конце концов! Я считаю, что раз продаешься в Голливуд — то уж продаешься! Иначе вообще игра не стоит свеч. Книгу они так и так изуродуют — пусть я хоть за это деньги получу!
— Но фильм сделает книге дополнительную рекламу. А кроме того, Бритт — дама очень энергичная…
— Какая-какая?
— В том смысле, что, в отличие от всей этой голливудской шушеры, она больше делает, чем говорит.
— Если она среди них лучшая, хотела бы я посмотреть на остальных! О Господи!
— Кроме того, дорогуша, вы получите проценты.
— Я слышала, что автор сценария обычно ни гроша не получает с прибыли от проката. Они держат специальных бухгалтеров, которые умеют состряпать финансовые документы так, будто никакой прибыли и в помине нет.
— Ну не верьте вы этой чуши. Получите вы свои проценты. Да на них одних вы сможете разбогатеть!
— Я не уверена, что хочу разбогатеть.
— Драгоценная вы моя, — говорит она, накладывая себе на тарелку побольше деликатесов, — богатство еще не повредило никому.
На следующее утро Бритт попыталась заманить меня в «Шерри-Нидерланд», но, почувствовав мое отношение, поняла, что необходимы более решительные меры.
— Давайте вместе позавтракаем, хорошо? Бог с ним, с фильмом, мне просто хочется поближе вас узнать.
К десяти часам я прискакала в «Шерри-Нидерланд».
Но, поднявшись в кафе, Бритт я там не нашла. Я прождала около получаса, чувствуя себя полной идиоткой, а потом в припадке безумия бросилась звонить ей в номер. Еще полчаса было занято, а когда я наконец дозвонилась до нее, она, казалось, совершенно забыла о назначенной встрече.
— О Господи! Я целое утро проболтала с Бобом Редфордом, а потом мне позвонил мой адвокат… Может быть, вы еще минутку подождете, выпьете кофе?..
Я еще как минимум сорок минут просидела в кафе, но Бритт так и не появилась. На полдень у меня была назначена встреча, поэтому я снова позвонила Бритт. И снова мне показалось, что она абсолютно забыла о моем существовании.
— Бог ты мой! Я сегодня какая-то бестолковая. Может быть, вы поднимитесь ко мне?
Поднявшись к Бритт, я поняла, что у нее и в мыслях не было встречаться со мной в кафе. Когда я вошла, она сушила волосы феном. На ней не было ничего, кроме маленьких черных трусиков, и ее стройные ноги заканчивались аккуратными ухоженными ногтями. Она с остервенением обдувала феном рыжую пену волос, откидывая их то в стороны, то вперед, и словно сгибаясь под их тяжестью. Она была очень хрупкой, и это всегда почему-то очень удивляло меня. Она не должна была бы казаться мне такой страшной при ее маленьком росте, да еще с голой задницей, — но почему-то казалась. У нее были маленькие вытянутые груди со сморщенными изюминками вместо сосков.

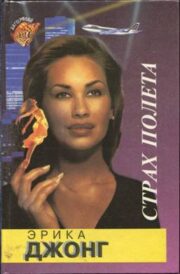
"Как спасти свою жизнь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Как спасти свою жизнь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Как спасти свою жизнь" друзьям в соцсетях.