В комнате повисло молчание, все были ошеломлены.
— У потока, — продолжала она, — гораздо больше прав, чем у личности, которая ждет одобрения. Более того, единственно возможные права именно у потока, у реки. Твоя главная ошибка, Изадора, в том, что ты переживаешь, как называется река, кто и что о ней говорит. «Значительная» ли это река? Достаточно ли она «искусная и лиричная»? Насколько она «выдающаяся»? Да какое все это имеет значение — пока она течет? Все остальное ерунда, борьба за влияние, жажда славы, короче говоря, — политика. Твое собственное «я» не имеет здесь никаких прав, как не имеет прав и собственное «я» критиков. Единственно законные права принадлежат реке. А права реки — это права читателей. Никто больше не имеет права влиять на течение реки — ни критика, ни сам автор. Есть только река и читатель, который, подобно рыболову, стоит в сапогах посередине реки и вылавливает из нее то, что может поймать, пытаясь разглядеть себя в быстро движущемся потоке и раздобыть себе пищу. Все права у него, а не у тебя. Твоя задача — следить, чтобы ничто не сдерживало поток, не поворачивало его вспять. Чтобы рыболов мог разглядеть в волнах реки свое лицо и поймать что-то на обед. И все. Больше тут ничего не скажешь.
Прежде чем уйти, Джинни отозвала меня в сторону и дала мне небольшой продолговатый пакет, завернутый в тонкую оберточную бумагу.
— Что это? — спросила я.
— На память обо мне, — с таинственным видом ответила она.
— На память о тебе? Но я никогда в жизни не забуду тебя!
— Это останется дольше, — с улыбкой сказала она.
Я развернула пакет. Там была тетрадь в красной бумажной обложке с сафьяновыми уголками и корешком. Джинни сделала в ней запись для меня — почерк был неровный, так что прописные буквы почти не поднимались над строкой, и от этого строчные казались особенно огромными:
Жизнь можно понять, лишь оглядываясь назад,
но в жизни нужно идти только вперед.
— Киркегор — в восприятии Джинни Мортон.
— Эта тетрадь, — сказала Джинни, — поможет тебе осмыслить жизнь, а то и спасти ее. Можешь назвать эту тетрадку «Как спасти себе жизнь».
— Как ты узнала, что именно этого мне так и не хватает сейчас? — поинтересовалась я.
— Да ведь я ведьма, — ответила она, прижимая меня к себе. — Постарайся сделать так, чтобы эта тетрадка была исписана до конца. Ради меня.
— Я отправлю ее тебе по почте, чтобы ты могла убедиться в этом сама.
— Может случиться, что ты так и не успеешь закончить ее, — сказала Джинни.
Луиза и Роберт Миллеры, мои друзья, отвезли Джинни в гостиницу, пропустили с ней по стаканчику на сон грядущий и собрались было уезжать, но она не отпустила их. Им пришлось торчать в вестибюле, пока она заказывала все новые и новые порции спиртного и запивала снотворное водкой в надежде, что оно, наконец, подействует и усыпит демонов, раздирающих ее изнутри.
Джинни держала Боба за руку, нервно сжимая ему запястье; она сжимала его все сильнее по мере того, как в ней рос страх: она боялась подняться в номер, боялась остаться одна. Она уговаривала их побыть с нею еще, но когда в три часа ночи они запросили пощады, она приняла очередную таблетку валиума и заснула в кресле — прямо в фойе. Только тогда они смогли уйти, так и не придумав, что еще можно сделать для нее.
А в октябре она умерла. Она лежала в гробу, были вызваны из колледжа дети, ее муж и любовники склонились перед ней в прощальном поклоне. Мир прощался с ней, и девушки-школьницы посвящали ей свои первые стихи. Она становилась легендой, еще одна поэтесса, покончившая с собой. Она, такая яркая, жизнерадостная, страстная и честная, такая теплая, превращалась в холодного идола по злой иронии судьбы.
Через неделю после ее смерти меня фотографировал в Центральном парке парнишка по имени Род Томас, фотограф, поэт и страстный поклонник Джинни. Мы с ним бродили по парку, много говорили о ней, и он снимал меня — под сенью деревьев, на скалах, в лодке. Это были фотографии для моей новой книжки стихов, но я на них выглядела какой-то затравленной, и мы решили их не давать. Не знаю, права ли я была, но мне показалось, что на них я совершенно не похожа на себя. Не скажу, чтобы я вышла очень похожей на Джинни, но все-таки здесь без вмешательства потусторонних сил не обошлось. Хотя мне трудно сказать, было это переселение душ или что-то еще.
Фотографии отображают реальность самым необычным образом. Говорят, что они точно передают предметы материального мира, но на самом деле они отражают духовное и лишь в незначительной степени — игру света и тени в мире скал, деревьев, человеческой плоти. На фотографии происходит то, чего никогда не случается в жизни. Или это мы склонны замечать на фотографиях моменты, которые в реальности совершенно выпадают из нашего поля зрения. Идентичны ли наше восприятие и реальная действительность? Часто на таком вот допущении мы строим всю нашу жизнь, но может быть, это допущение неверно? На этих фотографиях что-то новое появилось в моем лице — какое-то необычное бесстрашие, мужественная готовность признать себя дураком.
Но все это я понимаю задним числом. «Жизнь можно понять, лишь оглядываясь назад, но в жизни нужно идти только вперед», — написала мне Джинни в тетрадке, которую за все эти месяцы я так и не начала: слишком красивой казалась она мне, слишком подавленной чувствовала я себя. Не могу сказать, чтобы до гибели Джинни я была напрочь лишена этой смелости дурака. Я совершала множество дурацких поступков, страдала от них, училась на собственных ошибках. Но после ее смерти к моей вечной и мучительной нерешительности добавилось что-то новое. «Выбирай, жизнь или смерть, — казалось, говорила она мне из могилы, — но, ради Бога, не отравляй свою жизнь нерешительностью!»
Бывает, на жизненном пути мы встречаем истинных духовных наставников, но главное — распознать их среди обыденной житейской суеты. Я с первого взгляда распознала в Джинни оракула, но вот вопрос: прислушалась бы я к ее откровениям, если бы она осталась в живых.
Было воскресенье, мы фотографировались в парке. А когда я вернулась домой, Беннет, как всегда, шаркал своими извечными шлепанцами, без конца слушал одни и те же контаты Баха и читал одни и те же психоаналитические журналы. С утра он уже успел сыграть свою неизменную партию в теннис.
Заявившись домой, мы сели пить чай — втроем. Неожиданно зазвонил телефон.
Помехи на линии подсказали мне, что звонят из солнечной Калифорнии.
— Алло! Изадора? Это Бритт, — ей даже не нужно было называть себя: ее гнусавый голос невозможно было спутать ни с кем.
— Привет, — сказала я, замирая от страха, который Бритт всегда внушала мне.
— Привет, — ответила она, немедленно переходя к делу. — Слушай, я не могу долго говорить, потому что меня ждет Пол Ньюмен, но у меня есть для тебя фантастическое предложение! Только вот что — тебе нужно будет приехать ко мне.
Пророческая сила волн морских…
Есть еще на этой бренной земле люди, которые всегда испытывают радость, — у них больше внутренней силы, чем у всех остальных. Они не расходуют ее на чувство подавленности и на самообман. Ощущать себя несчастным — это не хобби, это жизненный стиль…
«Побережье», — думала я с благоговейным страхом по пути в Калифорнию, туда, куда писатели приезжали умирать, туда, где разрушалась поэзия, где продюсеры, импресарио и прочие паразиты высасывали жизненные соки из процветавшего некогда таланта, добивали ими же задушенный гений, перемалывали еще не оперившийся Божий дар, имевший несчастье попасть к ним в лапы.
Продюсеры. Эта братия кушает драматурга на завтрак, режиссера — на обед, а на ужин из семи блюд им подают актеров. И все же, несмотря на все неудачи, несмотря на то, что я не доверяла Бритт, я испытывала странный подъем после ее звонка. Мои отношения с Беннетом окончательно зашли в тупик. Я имела полное право лететь.
Последний взгляд на Беннета в аэропорту — возможно, это наша последняя встреча. В памяти осталась его застывшая поза, черные лоснящиеся волосы, грустные глаза, показавшиеся особенно маленькими за толстыми стеклами очков.
Впрочем, постойте, — до этой была еще одна сцена, запомнившаяся мне: наш последний акт любви.
Это было днем накануне моего отъезда. Утром мы оба проснулись рано, каждый по-своему переживая мой отъезд. Пока он готовил мне завтрак, я начала собираться. Потом он ушел играть в теннис, а я стала готовить обед. Когда он вернулся, вещи уже были собраны и мы забрались в постель.
На этом месте в моей памяти — пробел, какие-то беловатые блики, будто, разбуженная кошмаром, я очнулась ото сна и обнаружила, что на глаза натянуто одеяло. И вдруг медленно, постепенно всплывает в памяти некий предмет, вроде стеклянный, отливающий серебром. Что это? Какая-то маленькая палочка, яркая, хрупкая, словно озаренная лунным сиянием волшебная палочка эльфов, — только с делениями и цифрами, нанесенными с одной стороны.
Да ведь это мой термометр, с помощью которого я определяю, когда могу забеременеть, — он лежит на тумбочке возле постели, потому что, несмотря на безмерное отчаяние из-за Беннета и постоянное желание уйти от него, я стала измерять себе температуру, а иногда даже «забывала» надеть колпачок в надежде, что как-нибудь случайно в моем организме зародится еще одна жизнь.
Эти попытки подтолкнуть «случайность» вызывали во мне раздвоенность и чувство страха. С одной стороны, я понимала, что ребенок не может склеить осколки того, что когда-то было нашим браком, но, с другой, он должен скрасить одиночество и опустошенность, которые навалятся на меня, стоит мне решиться, наконец, окончательно с Беннетом порвать. А может быть, ребенок изменит нас самих, вернет нам утраченный ныне интерес к жизни, даст шанс снова друг друга полюбить. Смерть Джинни требовала восполнить утрату. Мне казалось, что у меня будет девочка и в память о Джинни я так ее и назову.
Но сейчас, когда я уезжаю в Калифорнию и не знаю еще, какая судьба ждет меня там, я достаю со дна чемодана — ну надо же было так глубоко запихнуть — резиновый колпачок и незадолго перед возвращением Беннета надеваю его.
В постели мы затеваем разговор.
— Тебе грустно, что я уезжаю? — глядя на его мрачную физиономию, спрашиваю я.
— Я буду скучать по тебе, — отвечает он.
Я тронута. Впервые за все эти годы он попытался сказать мне что-то ласковое. Конечно, это ласка еще какая-то урезанная, скупая, но все же — ласка. Слезы катятся у меня из глаз.
— Мне не нужен никто, кроме тебя, — всхлипывая, говорю я.
Ну почему все так мрачно в наших отношениях? Мгновения нежности, и то какие-то грустные. Мы почему-то никогда в постели не смеялись.
Любовью он занимается грамотно, даже профессионально, но как-то холодно, почти механически. Он не груб, как это было летом в период моей безумной ревности, но и не нежен по-настоящему. Он нажимает все кнопки на моем теле, словно я не человек, а микрокалькулятор.
…В самолете я вдруг чувствую, что мне чего-то недостает. Страха. Я откидываюсь в кресле и жду его, своего привычного ужаса, давно знакомого мне отчаяния, твердой уверенности, что сейчас умру. Но, пристегнув ремни, чувствую себя абсолютно спокойной. Нормальный взлет. Мне кажется, что после ее смерти моя жизнь обрела второе дыхание и все, что произойдет теперь, просто не может не произойти. Я уже не в силах удержать самолет: или это сделает Дженни, или он разобьется, если на то будет Божья воля, но так или иначе, я теперь в надежных руках.
Чудесный, удивительный полет! Мы пролетаем над горами и долами, а маленькие, словно игрушечные, озера выглядят с высоты, как круглые голубые глаза. Если бы рядом со мной находился Леонардо да Винчи! Если бы он только мог совершить путешествие на «Боинге-747»! Если бы рядом со мной была Джинни и мы бы вместе летели через Скалистые горы, все выше забираясь в необъятное небо Запада, начав все с начала, начав новую жизнь!
Неужели это смерть Джинни вдруг освободила меня от страха перед полетом, который преследовал меня каждый раз, когда я садилась в самолет? Или причина в другом? Может, я просто поняла, как непредсказуема жизнь, как мало значат для будущего наши тревоги и волнения? Или просто я повзрослела и перестала бояться расставания с домом, с мамой, с землей, с улицей, где я росла, и с Беннетом, который сначала превратил меня в «Винг», а потом приложил все усилия, чтобы подрезать мне крылья?
Удивительно, что больше всего я боялась взлета и каждый раз страшно радовалась посадке. Это было так глупо с моей стороны: ведь на самом деле посадка и есть самое опасное. Может быть, я подсознательно боялась расставания с домом, — но теперь оно больше не страшило меня. Дом мой там, где я нахожусь. И вот я лечу.

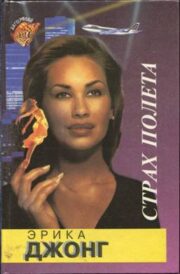
"Как спасти свою жизнь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Как спасти свою жизнь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Как спасти свою жизнь" друзьям в соцсетях.