Я допускала, что сама плохо в этом разбираюсь, но Бритт! — уж она-то должна была знать, что делает. И я совершила то, на что в жизни не согласился бы ни один писатель: я доверила Бритт свой текст. Я принимала ее рекомендации, я позволяла диктовать мне, что где писать, и в конце концов моя наивность привела к трагедии. Сценарий не отражал ни моей книги, ни замысла Бритт. Это было полное собрание ошибок.
Мы работали и в гостинице «Беверли-Хиллз», и в кабинете Бритт на студии «Парадигм-пикчерз», и в ее особняке, но на самом деле то, чем мы там занимались, работой трудно назвать. Невозможно было завладеть вниманием Бритт больше, чем на десять минут. Она ходила по комнате, курила, нюхала кокаин, отвечала на звонки, назначала встречи, делала какие-то замечания, заставляла меня нянчиться с двумя неврастеничными ласа-апсо, посылала за покупками, в общем, обращалась со мной, как с лакеем или личным секретарем. Я была настолько потрясена таким обращением, что у меня не было сил протестовать. Никто никогда не обращался со мной так. Интересно, Бритт поступала так сознательно или она не ведала, что творит? Скорее всего, последнее. Стоило мне набраться храбрости и намекнуть, что я ей не нянька и не прислуга, как она принималась рыдать, повторяя, что она мне друг, что она любит меня и полностью отождествляет с собой и никогда, никогда, никогда не позволит себе ничего такого, что могло бы меня оскорбить. Вот так, урывками, нам удалось разложить «Откровения Кандиды» на сцены и выписать их на карточки. Потом мы долго ползали по полу, пытаясь расположить их по порядку. Вся моя жизнь — на карточках, под ногами! Когда мы расчленили всю книгу, я поняла, что мне придется так же разложить по сценам и всю мою жизнь. Другой вопрос, удастся ли мне вновь сложить рассыпавшиеся осколки.
В середине второй недели моего пребывания в Калифорнии Бритт исчезла. Ни ее секретарша, ни домработница, ни даже бывший муж понятия не имели, где она может быть. Я прождала ее целый день, и когда поняла, что кроме меня никто не волнуется, — оказывается, такое часто случалось: она уходила и возвращалась, и каждый раз с новым кавалером, — я тоже решила отдохнуть. Я отправилась в Беркли навестить подругу по колледжу и во время полета с восхищением рассматривала в иллюминатор необыкновенные очертания гор. Я как-то по-идиотски уютно ощущала себя в воздухе. В целом мире. И — чего со мной никогда прежде не случалось — я совершенно не думала о Беннете. Его больше не существовало для меня; прошла и депрессия, и мне казалось, что начинается новая жизнь.
Вернувшись в Беверли-Хиллз, я вновь поинтересовалась, где Бритт, и поскольку она пока не объявилась, решила продолжить отпуск и сделать еще кое-какие дела.
Я взяла напрокат машину и поехала в Диснейленд, но по дороге свернула на Малибу и там долго стояла на морском пляже, размышляя о жизни и пытаясь проверить на себе пророческую силу волн.
Океан играл всеми цветами радуги: он отливал пурпуром, зеленью и лазурью, а ветер колыхал его блестевшую на солнце поверхность. Воздух был так чист, что горизонт казался бритвенным острием, а океан вздымался и опускался, вздымался и опускался, подчиняясь какой-то известной только ему, таинственной и загадочной силе.
Я стояла на песчаной кромке, оставленной приливом, и ждала, что расплывчатые губы волн предскажут мне судьбу. Я загадала: если волны коснутся моих ног, мне в конце концов удастся порвать с Беннетом.
Так я стояли и тщетно ждала, когда же наконец волны докатятся до моей жаждущей пророчества плоти, а в груди нарастало отчаяние. Прокатилась уже тысяча волн, а я все стояла, стараясь не показывать морю, как жестоко оно обмануло меня. И вот — свершилось! Сверкающая сине-голубая волна, пеной разбившись у ног, докатилась-таки до моих томящихся в ожидании пальцев, лодыжек, коленей и икр. Я чувствовала, как оседает под ногами влажный песок, я ощущала ужас и — радость: море только что освятило мой с Беннетом разрыв.
Во второй половине дня я была приглашена в гости к известному американскому писателю, который последние годы находился в эмиграции в Париже, но на склоне лет решил, подобно многим другим представителям богемы, вновь обрести буржуазный комфорт на берегу Тихого океана. Своей подпольной известностью Курт Хаммер был обязан зачитанным до дыр немногочисленным экземплярам считавшихся порнографическими книг, которые нелегально пересекали границу в те дни, когда о проблемах секса не принято было говорить вслух. Теперь секс был на книжном рынке в большом почете, цензура, объявлявшая его прежде чуть ли не новоявленным маркизом де Садом, отменена, и гонорары его стали падать, а сам он на фоне «новой волны» казался романтиком, человеком, влюбленным в любовь, но еще больше влюбленным в слова.
Ныне восьмидесятисемилетний старик, он редко вставал с постели, где понемножку писал, спал и развлекал беседой своих последователей. Они стекались к нему со всего света, а если кто-то из них на встречу не спешил, он сам приглашал их — в длинных письмах на особой, изготовленной специально по его заказу желтоватой бумаге. Лежа в постели, он держал связь с целым миром! Он писал размашисто, с сильным наклоном — его почерк был так непохож на мой! — и ему ничего не стоило сочинять по двадцать посланий в день. Когда я посетила его, он попросил меня отправить целых двадцать два. Его адресаты жили в Швеции, Японии, Франции, Югославии и даже на Ближнем Востоке. Женское движение обвинило его в мужском шовинизме, и это задело и заинтриговало его. Он стал переписываться с феминистскими организациями всего мира и при каждом удобном случае повторял, что женщины во всех отношениях выше мужчин. «Если мужчина живет на свете столько, сколько я, он неизбежно должен прийти к этой мысли», — частенько говаривал он.
Глядя на этого забавного человечка, чем-то напоминающего гнома из сказки, с веснушчатой лысиной и хитрой улыбкой ребенка, который только что очень весело и смешно напроказил, было трудно представить себе, что когда-то он считался певцом сексуальности и монстром разврата.
— Все считают меня грязным старым развратником, — сказал мне Курт с озорной ноткой в голосе; акцент все еще выдавал в нем уроженца Бруклина. — Вы не боитесь присесть ко мне на кровать?
Я прыснула со смеху. Мне он казался совершенно безобидным.
— Что бы я ни сказала, вы все равно обидитесь.
— Я выше обид. Мне нравится жизнь. Каждое утро, проснувшись, я говорю себе: «Ну, как? Жив еще?» А иногда чувствую себя так хреново, что кажется, будто я уже мертв. Единственное, о чем я молю Всевышнего, — это чтобы на том свете мне бы жилось так же интересно, как здесь. Мне глубоко неинтересна нирвана, нирвана — это смертная тоска. Да просто хуже не придумаешь. Я хочу крайностей: добра и зла, дерьма и — Шопена. Кстати, вы любите Шопена?
Я кивнула.
— Лично я в Шопена влюблен. Никто так не трогает меня, как Шопен. Ни одна моя книга, — я повторяю, ни одна, — не стоит одной его прелюдии. И это истина.
Я провела с Куртом целый день, беседуя о его творчестве и о моем, о феминизме, поэзии, моем замужестве, его браках. У него был тот напряженный интерес к молодежи, который возникает только тогда, когда писатель уже достиг недосягаемых высот, труд его жизни завершен и он твердо знает, что литература принадлежит всем. Я рассказала, как болезненно переживаю каждый злобный выпад газетчиков против меня, и он меня совершенно за это разбранил.
— Чтобы я никогда больше не слыхал таких слов! — закричал он. — Да знаете ли вы, что писали в свое время о Уитмене?
— Нет, — ответила я.
— «Свинья, роющаяся в отбросах». И это в рецензии на «Листья травы». Вы читали «Листья травы»?
— Да. Мне нравится эта книга.
— А об этой рецензии не доводилось слыхать?
— Нет, — призналась я.
— Больше слова «болезненно» при мне не произносите! Не стоит расходовать боль на жалких газетных писак. И вообще не нахожу здесь причин для страданий. В жизни важно не то, сколько страдаешь, а сколько радуешься. Боль, страдание испытывает каждый дурак. Жизнь вообще дает нам много поводов и предлогов покончить с собой. Но я вам скажу: когда тебе восемьдесят семь и ты редко встаешь, единственное, что болезненно переживаешь, так это то, что слишком часто в жизни переживал по пустякам, из страха поступался принципами, подпускал к себе непрошеных советчиков и позволял всяким подонкам мешать тебе жить. Остерегайтесь людей смерти, вы понимаете, что я имею в виду. То есть тех, кто сам жаждет умереть и нас всех за собой тащит. Надо держаться подальше от таких. Научитесь их избегать — все будет хорошо. То же самое касается творчества: никогда не слушайте этих людей. Сами они не способны к созиданию, а могут только разрушать и затыкать всем рот. И себе, кстати, тоже — некоторое время спустя. Вы им нужны — иначе им не о чем будет писать, — а они вам — нет! Понимаете, что я хочу сказать? Чувствуете, почему я так терпеть не могу это словечко — «болезненно»?
Из окна спальни видно, как океан готовится проглотить солнце. А в Нью-Йорке уже ночь — если где-то еще существует Нью-Йорк, в чем я лично теперь начала сомневаться.
Откуда пошел этот миф, думала я, возвращаясь в Беверли-Хиллз по Пасифик-коуст хайвей (мне предстоял прием, который устраивали в мою честь друзья), что образованность и интеллект исчезают, стоит лишь покинуть пределы Нью-Йорка? На всем свете, наверное, не найдется другого такого патриота Нью-Йорка, как я, человека, который всю жизнь прожил бы на одном месте в одном и том же районе, и оттого мне как-то по-особому весело было сознавать, что и за Скалистыми горами существуют интеллектуальная жизнь. Я думала о разговоре с Куртом: он показал мне, что и в восемьдесят семь можно чувствовать себя нормально, если мало о чем в жизни жалеть.
Конечно, придут всякие болезни: артрит, атеросклероз, — но дух твой не постигнет безвременная кончина. Впервые я представила себя восьмидесятисемилетней (очень смутно, но все-таки представила). Когда-нибудь я стану ужасной старухой! И меня будут окружать ученики, последователи и — чем черт не шутит! — даже внуки. Моя жизнь, еще месяц назад казавшаяся окончательно потерянной, на самом деле только начиналась! Что значат мои тридцать два в сравнении с восьмьюдесятью семью! И что мне пришло в голову затевать с ним разговор о боли и страдании? Я пришла в мир помимо своей воли, но сознательно в нем остаюсь, и никто не сможет выбить меня из седла, пока я сама не сочту, что для этого настала пора.
Я припарковала машину и сломя голову кинулась в номер: мне не терпелось поскорее кое-что записать. Я распахнула дверь, скинула туфли, забралась с ногами на кровать и, радостно хихикая про себя, быстро набросала в подаренной мне Джинни тетрадке:
Как спасти себе жизнь
Афоризмы и изречения Изадоры Винг
(навеянные духом времени)
«Беру ручку и в дорогу!»
1. Не признавай за собой вины без достаточных на то причин.
2. Не делай из страдания культа.
3. Живи настоящим (или, по крайней мере, ближайшим будущим).
4. Всегда делай то, чего больше всего боишься: храбрость приходит со временем, так же, как вкус к черной икре.
5. Доверяй радости.
6. Если на тебя устремлен дурной глаз, отвернись.
7. Готовься к своему восьмидесятисемилетию.
(Продолжение следует)
В половине седьмого вечера я стояла возле отеля «Беверли-Хиллз». Очки я сняла, поэтому все виделось мне, как в тумане: юноши с выгоревшими на солнце волосами, припарковывающие «роллс-ройсы» с поэтичными пропусками, торчащими в окне, загорелые агенты в джинсах от Сегала и мокасинами от Гуччи, юные девушки, надеющиеся на то, что их примут за восходящих звезд, и молоденькие артисточки, мечтающие казаться знаменитостями, ведущие модных телепрограмм и безымянные авторы, работающие на известных кинодраматургов, сами эти кинодраматурги и даже повисший над ними ореол.
— Миссис Винг? — по всей форме обратился ко мне молодой человек, явно желая не допустить политической ошибки.
— Зовите меня просто Изадора, — сказала я, к собственному удивлению не рассмеявшись этой идиотской фразе — меня отвлекло это мохнатое, доброе, чуточку странное, но очень приятное лицо, неожиданно появившееся в поле моего близорукого зрения.
— Джош Эйс, — представился молодой человек, пожимая мне руку и приглашая сесть в стоящую прямо посреди мостовой ярко-зеленую «Эм-Джи» с откинутым верхом (это все, что я могла разглядеть без очков). Джош был сыном Роберта и Рут Эйс, которые и устраивали сегодня прием в мою честь.
В тридцатые годы они уже были известными сценаристами, а в пятидесятые попали в черные списки и вынуждены были пережидать маккартизм в Риме, где с десяток лет довольно бойко пекли итальянские вестерны, но теперь вернулись в Калифорнию к вящей радости модных радикалов от киноиндустрии — «радикальных овечек», как я окрестила их про себя. Я встречалась с Эйсами в Нью-Йорке у общих друзей (они жили там последние пять лет), но никогда понятия не имела, что у них, оказывается, есть сын.

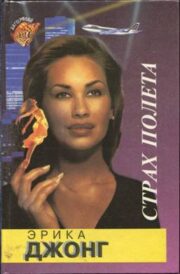
"Как спасти свою жизнь" отзывы
Отзывы читателей о книге "Как спасти свою жизнь". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Как спасти свою жизнь" друзьям в соцсетях.