— А я, — произнес лорд Пемброк, безмолвно, словно угорь, проскользнувший в зал суда, — обязался выплатить долг. Но поскольку ответчик должен мне пятьсот гиней, должником является он.
— Брависсимо, — откликнулся Казанова, аплодируя кончиками пальцев, и скривил губу. Его гримаса была столь бесподобна, что лорд отшатнулся, будто его толкнули.
— Мне не нравится вся эта история, — заявил сэр Джон и поправил ленту на глазах. — Я чувствую, что у обеих сторон есть немало за что ответить. Не будь я связан законом и должным прецедентом, я бы заковал эту парочку в кандалы и отправил на площадь в дырявой лодке. Тогда бы они живо нашли общий язык! Скажите мне, мсье Казанова, если вас освободят, намерены ли вы причинить какой-нибудь ущерб этой женщине или ее семье?
— Нет, мсье, не намерен. Признаюсь, я хотел ей отомстить, потому что ни одна женщина не оскорбляла меня столь дерзко и жестоко. Но теперь я мечтаю лишь о мире и спокойствии.
— О мире? Для чего вам нужны мир и спокойствие?
— Я хочу быть тем, кто я есть, мсье.
— Кем же именно?
— Соблазнителем женщин! — воскликнула Шарпийон.
— Разрушителем семей, — хором подхватили тетки.
— Кошмаром матерей, причиной их бессонницы! — закричала мать Шарпийон и уверенным жестом иллюзиониста простерла руки к шевалье, словно рассчитывая, что он должен испариться. — Способны ли вы представить себе, ваша честь, что я пережила, когда этот негодяй стал преследовать мою дочь? Он циничен до мозга костей. Я уверена, что в душе он ненавидит всех женщин. И желал бы их уничтожить.
— Мсье, — обратился к судье Жарба. — Позвольте мне сказать несколько слов.
Сидевшие рядом с судьей как по команде затихли. Сэр Джон повернул голову на источник голоса.
— Вы слуга обвиняемого?
— Да.
— Он хорошо обращается с вами?
— Как и следует обращаться со слугой.
— Можете говорить.
— Мсье, при всем уважении к моему хозяину, шевалье де Сейнгальту, которого иные также называют Казановой, я был свидетелем его отношений с этой женщиной с самых первых дней их знакомства и сразу понял, что любовь не принесет им счастья. Они видели не друг друга, а лишь тени собственных фантазий. Я наблюдал за ними, когда они были вместе, и казалось, что они находятся в разных комнатах, а когда кто-то из них говорил, то другой его не слышал. И они ни разу не высказывали того, что действительно было у них на уме, кроме одного-двух случаев, когда они блефовали правдой. Мне странно было следить за этой комедией, мсье, комедией с настоящими ударами и синяками. Их было жаль, даже когда над ними хотелось смеяться.
— Смеяться? Полагаю, молодой человек, а на мой взгляд, вы еще очень молоды, вы серьезно рискуете своим местом. Мы знаем, что слуги нередко смеются над нами, но чтобы так вот откровенно… Как вас зовут?
— Сейчас меня называют Жарбой, — ответил Жарба. — Но у меня были и другие имена.
— Итак, Жарба. — На устах судьи заиграла озорная улыбка. — Уж если вы решили говорить столь свободно, то не подскажете ли, как нам опустить занавес? Какой, по-вашему, тут следует устроить финал? Меня просто подмывает приказать им вступить в законный брак. И буду в своем законном праве, между прочим.
Жарба посмотрел на Казанову, который смахнул набежавшие слезы, и кивнул.
— Их нужно разнять, как разнимают детей, подравшихся на улице, — уверенно произнес Жарба.
Судья задумался и какое-то время сидел молча. Сверху на собравшихся взирал с добрым прищуром портрет Шекспира кисти Амикоми. Стихийное бедствие не сумело поколебать его невозмутимости, лишь лавровый венок от сырости начал крошиться.
— В моем детстве, — проговорил судья, — когда отец или учитель растаскивали наши драки, нам предлагали на выбор: или нас хорошенько отстегают ремнем, или мы пожмем друг другу руки и расстанемся, как подобает нормальным людям. Конечно, мы часто предпочитали порку унижению и отказывались подать руку заклятым врагам. Ведь побороть гордыню труднее всего. Если мсье Казанова даст слово, что не станет добиваться встреч с этой женщиной, Мари Шарпийон, и уж, во всяком случае, не станет ее преследовать, и если он продемонстрирует свою добрую волю, пожмет юной даме руку и попросит у нее прощения, то я соглашусь его освободить. Пусть только два свидетеля-домовладельца поставят свои подписи…
…
— И вы это вытерпели, синьор? Пожали ей руку и попросили прощения?
— Синьора, — ответил Казанова и взялся за обшлага камзола, словно собирался поднять себя из кресла. — Лучше бы меня привязали к телеге и протащили по всем лондонским улицам! Я бы скорее согласился на это…
— Но что может быть проще, чем обменяться рукопожатием, парой слов? Слепой судья был великодушен. Другие могли бы обойтись с вами куда суровее. Окажись на месте судьи женщина…
— И вы тоже готовы заступиться за Шарпийон! Ну как вы не понимаете, что это за чудовище? А как быть со мной? С моими страданиями?
— Разве сейчас время для подобных жалоб? — отозвалась его гостья, поглядев на догорающую свечу и огонь, лижущий фитиль.
— Ха!
Старик опустил голову. Ему уже перевалило за семьдесят. Столько времени на ногах… Он вздохнул, а когда заговорил, его голос прозвучал совсем тихо и походил на шепот.
— Синьора, она тоже сделала шаг мне навстречу, и не один, пожалуй, даже больше, чем я к ней… так что мне не пришлось безоговорочно капитулировать. Ее глаза были… о, ну, глаза как глаза, синьора, но она улыбнулась так, словно выиграла и в то же время проиграла. Что могло ждать ее в будущем? То, что предсказывал Гудар. Вскоре ее оттеснили бы девушки помоложе и посвежее. Лорд Пемброк стал ее покровителем, но едва ли надолго… Да, я подал ей руку, она взяла ее в свою, и рукопожатие Шарпийон больше напоминало мужское, и это меня удивило, ведь у нее были маленькие руки с очень нежными пальцами. Со стороны могло показаться, будто мы заключаем какую-то сделку, что-то чисто коммерческое.
— И вы попросили у нее прощения?
— Да, я попросил у нее прощения. Я говорил громко, чтобы все в зале суда смогли меня услышать. Она ничего не ответила, но задержала свою руку в моей еще на несколько секунд. Судья отпустил нас. Он сказал, что мне надо найти какую-нибудь достойную работу, обзавестись семьей, избегать искушений и авантюр, в общем, всего, ради чего стоит жить. Я поблагодарил его и спросил Жарбу, не надо ли мне заплатить взятку, но момент был уже, по-видимому, упущен. Я также подумал, не поговорить ли мне напоследок с Шарпийон, сидевшей рядом, или это будет сочтено нарушением тех условий, на которых меня освободили.
— Что еще вы могли бы ей сказать, синьор? Вы же с ней расстались. И ваши пути разошлись.
— Верно. Но тогда мы еще могли все изменить и начать заботиться друг о друге. Для любви… — пробормотал он, как будто эта истина дошла до него медленно и сквозь долгие годы. — Для любви требуется холодная голова…
Он посмотрел в окно. Над Богемией опустилась ночь, и хотя он не желал говорить об этом первым, стены его комнаты, казалось, сделались тоньше. Хорошо, если Финетт сейчас сдвинется с места и напомнит, куда он вытянул ноги. Старик взглянул на свою гостью. Несомненно, в конце визита она поднимет вуаль и покажет ему свое лицо, если, конечно, он не говорил в пустоту.
— Свечи еще хватит, чтобы сжечь письма, — промолвила она. — Если хотите, я вам помогу.
— Не думаю, синьора, — отозвался Казанова, помедлив. — Быть может, позже?
глава 8
Когда он вышел, то изумился, как светло стало на улице. Хотя на кормах лодок у рынка еще горели фонари, он смог разглядеть фасад церкви на другой стороне площади. Жарба отыскал и привел в суд Мартинелли и человека-тень. Они поставили подписи, столь нужные для освобождения шевалье. Теперь оба свидетеля сидели с ним в лодке.
— Куда мы отправимся, мсье? — спросил Жарба. Он успокоился и начал вести себя по-прежнему.
— На Пэлл-Мэлл, — ответил Казанова, обернулся и с дрожью посмотрел на здание театра. — Полагаю, мы, то есть ты, Жарба, спасли немного хорошего вина. И чай для мистера Джонсона.
— Нет, сэр, — возразил Джонсон. — По этому случаю я с удовольствием выпью. Человек спасен от пожизненного заключения, а такое бывает редко. Я разделю с вами бутылочку доброго вина.
Лодочник старался не отклоняться от середины улицы, чтобы его весла не ударили ненароком по ушедшим под воду металлическим вывескам и не запутались в рыбацких сетях с колокольчиками, закинутых чуть ли не от каждого дома. Их облаяла брошенная на крыше собака. Мимо проплыла молочница с бидонами и рассмеялась без какой-либо причины.
— Вода быстро спадает, — заметил Джонсон. — Лет через пять мы не сможем убедить приезжих, что когда-то по лондонским улицам можно было плыть. Нам никто не поверит.
Их лодка миновала Хеймаркет, гостиницу «Пейнтид-Балкони-Инн», кофейню «Смирна» и книжную лавку Додсли. Наконец лодочник опустил весла, и Жарба, привстав, дотянулся до подоконника спальни Казановы.
Они с трудом, тяжело дыша и опасаясь опрокинуть лодку, последовали за ним и забрались и комнату. Казанова зажег свечи, вышел на площадку и позвал миссис Фивер. Она заметно помолодела от сырости, словно сушеный абрикос, отмокший за ночь в чаше с водой. Жарба закрыл ставни, чтобы с реки не тянуло холодом. Минут через десять шевалье и его гости уселись на стулья, принесенные из гостиной, и подняли бокалы с белым вином «Сотерн» урожая сорок седьмого года из Шато д'Икем. Они уже собирались выпить, когда Казанова услыхал привычный стук распахнувшегося окна в доме напротив.
— Тс-с, — произнес он, торопливо поднялся из-за стола и распахнул ставни. — Этот малый преследует меня уже не первый месяц.
Он бросил взгляд через Пэлл-Мэлл. Жарба, Джонсон и Мартинелли подошли к нему и облокотились рядом о подоконник. На другой стороне улицы в темном окне замер высокий, худой и бледный человек в мятой ночной рубашке.
— Послушайте… Вот оно! — прошептал Казанова. — Всегда одно и то же. Что он говорит? На что жалуется?
— Он говорит, что счастлив, — любезно улыбнувшись, ответил Мартинелли.
— Счастлив?
— Я тоже его часто слышал, — подтвердил Жарба. — Вы правы, мсье, он всегда кричит одно и то же.
— Он сумасшедший? — спросил шевалье и обвел взглядом лица друзей.
— По всей вероятности, — отозвался Джонсон. — Но это неопасное безумие, и он никого не способен обидеть.
— Если б это сумасшествие было заразительно… — проговорил Мартинелли и положил Казанове руку на плечо.
Они отошли от окна, оставив ставни открытыми, вернулись к столу и осушили бокалы, смакуя вкус вина шестнадцатилетней выдержки. Город за окнами медленно пробуждался к жизни. Этот огромный, изъязвленный улей вновь воскресал в предрассветном тумане, а его жители потягивались в кроватях и пытались стряхнуть с себя сонное наваждение. Солнце взошло и над Венецией. Когда его лучи ярко заблещут, мальчик откроет глаза и поймет, что живет в мире, где способно случиться все что угодно, как писатель, склонившийся над чистым листом бумаги: вот он грызет кончик пера, опьяненный чувством раскинувшейся перед ним беспредельности, прежде чем первая начертанная буква, первое слово, первая ослепительная клякса повлекут его к неизбежному концу. Но вот день опять сменяется ночью, и, к лучшему или к худшему, все становится иным. И повсюду начинаются новые истории.
Примечание автора
Основой данного романа отчасти послужили воспоминания Казановы «История моей жизни» («Histoire de Ma Vie»), написанные на склоне лет в замке графа Вальдштайна Дукс на чешско-германской границе. Однако по большей части это чистый вымысел.
Казанова, подлинный, «исторический» Казанова, умер 4 июня 1798 года в возрасте семидесяти трех лет. Его могучее тело больше не выдержало тяжести бурной, богатой приключениями жизни. Похоронили его на кладбище при церкви Святой Барбары, неподалеку от замка Дукс. Сейчас там нет никакого памятника, но говорят, что долгие годы на его могиле стоял ржавый крест и цеплял юбки молодых женщин, ходивших по соседней тропинке.
Мари Шарпийон впоследствии стала любовницей английского политика-радикала Джона Уилкса, но после 1777 года, когда ей исполнился всего тридцать один год, ее имя исчезло со страниц исторических книг. Ее дальнейшая судьба останется неизвестной.

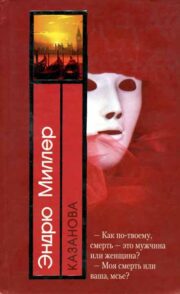
"Казанова" отзывы
Отзывы читателей о книге "Казанова". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Казанова" друзьям в соцсетях.