А пока она пасёт своих двадцать пять баранов, немного похожая на пастушку из комической оперы, немного смешная в своей большой шляпе колоколом, которая сохраняет лицо от загара, а волосы – от выгорания (от солнца волосы желтеют, дорогая!), в синем с белым узором фартучке и с романом (красными буквами на белой обложке заглавие: «На празднике»), засунутым в корзину. (Это я дала Клер почитать Огюста Жермена, чтобы приобщить её к жизни взрослых! Увы! Будет, наверно, и моя вина во всех тех диких глупостях, которые она натворит.) Уверена, что она считает себя несчастной, в самом поэтическом смысле слова, печальной покинутой невестой, и, когда остаётся одна, ей нравится принимать ностальгические позы: «откидывать руки, как ненужное орудие»[12] или сидеть понурив голову, наполовину скрытую распущенными волосами. Пока она пересказывает мне скудные события последних четырёх дней вкупе со своими невзгодами, я забочусь о её овцах, посылая за ними собаку: «Приведи их, Лизетта! Приведи сюда!», – и раскатисто произношу «бррр… зараза!», чтобы отогнать их от овсов, – я к этому привыкла.
– …когда я узнала, каким поездом он уезжает, – вздыхает Клер, – я оставила овец на Лизетту и спустилась к шлагбауму. Я дождалась поезда, он шёл медленно, потому что там подъём. Я увидела его, замахала платком, послала ему воздушные поцелуи, думаю, он меня заметил. Послушай, точно не скажу, но, по-моему, глаза у него были красные. Может, его заставили вернуться родители. Может, он мне напишет…
Давай, давай, сочиняй, романтическая натура, надеяться не запрещено. Да и потом, вздумай я тебя разубеждать, ты всё равно не поверишь.
После того как я пять дней бродила по лесу, царапая руки и ноги о колючие кусты, собирая охапки диких гвоздик, васильков и смолёвок, лакомясь горькими лесными вишнями и крыжовником, меня снова одолевают любопытство и тоска по школе. И вот я туда возвращаюсь.
Вхожу во двор и вижу: старшеклассницы сидят в тени на скамьях и лениво готовят работы к выставке; младшие плещутся на крытой площадке возле колонки. Мадемуазель расположилась в плетёном кресле, а Эме – у её ног на перевёрнутом цветочном ящике; наши красотки предаются безделью и шушукаются. При моём появлении директриса подскакивает и поворачивается на сиденье:
– Ах, вот и вы! Наконец-то! Я смотрю, вы приятно проводите время! Мадемуазель Клодина скачет по полям, не думая о том, что на носу раздача школьных наград, а ученицы не знают ни одной ноты из песни, которую будут петь хором на празднике!
– А что… мадемуазель Эме уже не преподаёт пение? И господин Рабастан?
– Не говорите глупостей! Вы прекрасно знаете, что мадемуазель Лантене не в состоянии петь, у неё слишком нежный голос. Что же до господина Рабастана, в городе было столько пересудов о его визитах к нам и о его уроках пения! Край сплетников, что поделать! Господин Рабастан сюда больше не придёт. Так что без вас хор обойтись не может, и вы этим злоупотребляете. Сегодня в четыре мы распределим партии, вы напишете на доске куплеты, а остальные их спишут себе.
– Хорошо. А что мы в этом году будем петь?
– Гимн Природе. Мари, подите принесите его, он лежит у меня на столе. Клодина начнёт его разучивать.
Эта рассчитанная на три партии песенка – в самый раз для школьного хора. Сопрано уверенно пищат:
Колокольный тихий звон,
Издали приходит он.
Гимн тот утро возвещает…
А в это время меццо-сопрано, вторя рифмам, повторяют «дон-дон-дон», имитируя колокольный звон к вечерней молитве. Это должно очень понравиться.
Начинается безмятежная жизнь, я буду драть горло, триста раз петь одно и то же, возвращаться домой безголосой и злиться, когда кто-нибудь сбивается с ритма. Хоть бы меня наградили чем-нибудь!
К счастью, Анаис, Люс, кое-кто ещё хорошо запоминают мелодию на слух и поют за мной уже с третьего раза. Мы кончаем, когда мадемуазель говорит: «На сегодня хватит!» – жестоко было бы заставлять нас долго петь, когда жара стоит, как в Сенегале.
– И учтите, – добавляет мадемуазель, – я запрещаю распевать «Гимн Природе» на перемене! Иначе вы его переврёте, исказите и не сможете правильно пропеть во время раздачи наград. Теперь за работу, и чтобы громко не разговаривали.
Нас, старшеклассников, выпускают во двор, здесь дам сподручнее готовить свои чудесные работы для «Выставки рукоделий» (ясное дело, «рукоделий», – не «ногоделий» же!). После раздачи наград весь город приходит восхищаться плодами наших трудов, заполняющими аж два класса. На учебных столах – кружева, вышивки, ришелье, отделанное лентами бельё. На стенах – ажурные занавески, вязаные покрывала, подбитые цветной тканью, коврики из пушистой зелёной шерсти (из распущенного вязанья), усыпанные красными и розовыми цветами из шерсти, каминные дорожки и салфетки из расшитого плюша… Взрослые девочки кокетливо выставляют нижнее бельё: особенно много роскошных комбинаций, рубашек из бумажного батиста в цветочек, искусно выполненных вставок, коротких, с раструбом, панталон, подвязанных лентами, лифчиков, сверху и снизу украшенных фестонами, – всё это на синей, красной, сиреневой бумаге и с табличками, где прекрасным рондо выведены фамилии авторов. Вдоль стен расставлены скамеечки, на них красуются вышивки – ужасный кот, чьи глаза вышиты четырьмя зелёными крестиками, обрамляющими чёрную серединку, или собака с красной спиной и лиловатыми ногами, изо рта у которой торчит кумачового цвета язык.
Парней, которые, как и все, приходят на выставку, прежде всего, разумеется, интересует дамское бельё; они задерживаются около рубашек в цветочек, панталон с лентами, подталкивая друг друга плечом, смеются и нашёптывают друг другу всякие пакости.
Справедливости ради надо упомянуть, что у мальчишек тоже своя выставка, соперничающая с нашей. Соблазнительное бельё они на всеобщее обозрение не выставляют, зато демонстрируют свои диковинные поделки: изящно выточенные ножки столов, витые консоли (это самое трудное, дорогая!), деревянные штуковины с соединениями «ласточкин хвост», тщательно проклеенные картонные коробки и особенно муляжи из гончарной глины – гордость учителя, который скромно нарёк этот зал «отделом скульптуры», – муляжи, якобы воспроизводящие фризы Парфенона и другие барельефы, оплывшие, грубые, жалкие. «Отдел рисунка» представляет собой зрелище ничуть не более отрадное: разбойники из Абруццо косят, у римского первосвященника флюс, Нерон ужасно гримасничает, а президента Лубе в трёхцветной рамочке из дерева и картона как будто вот-вот стошнит. («Это потому, что он думает о своём кабинете министров», – объясняет Дютертр, который злится, что никак не станет депутатом.) На стенах – тусклые рисунки, архитектурные композиции и «предварительный (именно так!) общий вид Всемирной выставки 1900 года» – акварель, заслуживающая почётного приза.
На всё время, оставшееся до каникул, мы уберём с глаз долой книги и будем лениво работать в тенёчке, то и дело бегая мыть руки – замечательный предлог, чтобы послоняться по двору, – якобы чтобы не замусолить светлую шерсть и белое бельё; я выставляю лишь три розовые батистовые распашонки, как у младенцев, соединённые с такими же панталонами—что-то вроде комбинезона. Это шокирует моих подружек, единодушно находящих их «неприличными», надо же!
Я располагаюсь между Люс и Анаис, которая, в свою очередь, соседствует с Мари Белом, – мы по обыкновению держимся своей компанией. Бедняжка Мари! Ей приходится снова готовиться к экзамену – теперь к октябрьскому… В классе ей до смерти скучно, и мадемуазель из жалости разрешает ей сидеть вместе с нами. Она смотрит атлас, читает «Историю Франции»– я говорю «читает», но книга просто лежит у неё на коленях; Мари наклоняет голову, переводит взгляд на нас, прислушивается к нашим разговорам. Я заранее знаю, чем кончится для неё октябрьский экзамен.
– У меня во рту пересохло. Ты принесла бутылку? – спрашивает у меня Анаис.
– Нет, я как-то не подумала, но Мари наверняка принесла.
Эти бутылки – ещё одна наша непременная причуда. Как только устанавливается жара, мы решаем, что воду из колодца пить нельзя (её нельзя пить в любую погоду), и каждая из нас приносит на дне корзины – иногда в кожаном портфеле или полотняной сумке – бутылку с холодным питьём. Мы соревнуемся, кто придумает самую оригинальную смесь, самые фантастические напитки. Никакой кока-колы – кока-кола для малышни. Нам больше пристало пить воду с добавками уксуса, от которой белеют губы и пощипывает в желудке, кислый лимонад, мятный напиток, который мы готовим сами из свежих листьев мяты, украденное из дома жутко сладкое вино, вяжущий сок из недозрелой красной смородины. Дылда Анаис горько сожалеет о том, что уехала дочь аптекаря, достававшая нам прежде пузырьки с мятным спиртом, чуть разбавленным водой, и сладкий зубной эликсир «Бото». Я человек неприхотливый, пью белое вино, разведённое сельтерской водой, подслащённое и с небольшим количеством лимона. Анаис злоупотребляет уксусом, а Мари – солодовым настоем, таким густым, что он отливает чёрным. Бутылками пользоваться запрещается, но каждая девочка, как я уже говорила, приносит свою – с пробкой, проткнутой трубочкой из птичьего пера; нагнувшись якобы за катушкой, мы пьём из торчащего носика, не вынимая бутылки из корзины. На маленькой пятнадцатиминутной переменке (в девять часов ив три) все мчатся к колонке, чтобы немного охладить бутылки. Три года назад одна девочка упала с бутылкой и выбила себе глаз – он теперь у неё весь белый. После этого случая у нас отобрали все бутылки… мы обходились без них неделю, а потом кто-то принёс новую, на следующий день ещё кто-то, и спустя месяц все уже опять были с бутылками. Мадемуазель, возможно, ничего не знает об этом случае, произошедшем ещё до неё, – или же она предпочитает закрывать на это глаза, лишь бы мы оставили её в покое.
Жизнь замерла. От жары настроение у всех вялое. Люс меньше докучает мне своими ласками; ссоры, едва вспыхнув, тут же затихают. Всех одолевает непроходимая лень. Внезапные июльские грозы застигают нас во дворе и молотят градом – а через час, глянь, на небе снова ни облачка.
Мы сыграли злую шутку с Мари Белом, похвалявшейся, что из-за жары она пришла в школу без панталон. И вот после обеда мы вчетвером сидим на скамейке в следующем порядке: Мари—Анаис—Люс—Клодина.
Я шёпотом объясняю двум соседкам свой план, и те отправляются мыть руки; середина скамейки оказывается пустой, на одном её краю сидит Мари, на другом – я. Мари дремлет над математикой. Я быстро встаю, и скамейка опрокидывается. Внезапно пробудившаяся Мари падает задрав ноги и визжит как резаная – только она умеет так визжать, – показывая нам, что панталон на ней действительно нет. Раздаются протестующие возгласы, хохот. Директриса хочет возвысить голос и не может – её тоже душит приступ смеха. Эме Лантене предпочитает удалиться, чтобы не корчиться отравленной кошкой перед своими ученицами.
Дютертр давно нас не посещает. Говорят, он греется на солнышке и занимается флиртом на морском курорте (откуда у него деньги?). Я так и вижу его в белой фланели, мягкой рубашке, со слишком широким поясом и в ядовито-жёлтых ботинках. Он обожает одеваться немного вульгарно да и сам выглядит вульгарно со своим светлым цветом лица при сильном загаре, с чересчур блестящими глазами, острыми зубами и чёрно-рыжими, словно подпалёнными усами. Я почти не вспоминаю о его неожиданной атаке в стеклянном коридоре – впечатление было ярким, но коротким. И потом, имея дело с ним, прекрасно понимаешь, что последствий не будет. Я, наверно, трёхсотая девчонка, которую он пытался заманить к себе, это происшествие ни для него, ни для меня уже не представляет интереса. Вот если бы его уловка удалась, а так что говорить!
Мы уже заботимся о туалетах, в которых отправимся на раздачу наград. Для мадемуазель шьёт чёрное шёлковое платье её мать, большая рукодельница, вверху она вышивает гладью большие букеты цветов, узкие гирлянды тянутся к низу юбки, ветки налезают на лиф – и всё это бледно-фиолетовым шёлком разных оттенков. Получается очень изысканно, может, немножко для «женщины в возрасте», но безупречного покроя. Её привыкли видеть в тёмной и простой одежде, а теперь она элегантностью затмит жён нотариусов и чиновников, супруг коммерсантов и рантье. Так отыграется эта неказистая, но хорошо сложённая женщина.
Мадемуазель Сержан не забывает позаботиться и о красивом праздничном наряде для своей ненаглядной Эме. Обложившись образцами тканей, подруги сосредоточенно выбирают самые лучшие – мы сидим тут же во дворе, в тени, и работаем. Думается, платье обойдётся Эме недорого. Впрочем, по-другому ей поступать не резон. С её семьюдесятью пятью франками в месяц, из которых надо вычесть тридцать за пансион – её (за свой она не платит) и сестры (тут она тоже экономит), – и двадцать франков, которые она отсылает родителям (это мне известно от Люс), – с её жалованьем никак не оплатить красивое платье из белой ангорской шерсти, образчик которой я видела.

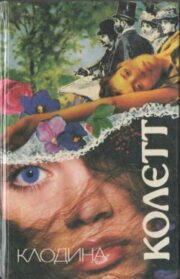
"Клодина в школе" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клодина в школе". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клодина в школе" друзьям в соцсетях.