Я вновь увиделась со своим благородным отцом, могучим бородачом, изрыгающим хлёсткие слова и кипящим беззлобной воинственностью. Не сознавая этого, мы друг друга любим, и я правильно поняла его приветственную фразу: «Соблаговолишь ты наконец обнять меня, проклятое отродье?» – так он выражал своё живейшее удовольствие. Мне показалось, за два года он ещё подрос. Нет, серьёзно! И вот доказательство: он признался, что на улице Жакоб ему стало тесновато. И прибавил: «Понимаешь, я недавно скупил за бесценок книги на аукционе… Тысячи две, не меньше… стадо свиней! Пришлось их пока спихнуть в ломбард на хранение! А в моей конуре и так тесно… Вот в Монтиньи, в дальней комнате, которая никогда не открывается, я бы мог…» Он отворачивается и дёргает себя за бороду, но мы успели встретиться глазами и обменяться особенным взглядом. Ох, старый жук! Я хочу сказать, что он, пожалуй, способен вернуться в Монтиньи, как недавно переехал в Париж: просто так, без причины…
Со вчерашнего дня квартира Ре… наша квартира приведена в порядок. Больше не придётся видеть ни придирчивого обойщика, ни рассеянного мастера, вешавшего шторы: каждые пять минут он терял какой-нибудь из своих инструментов золочёной меди. Рено чувствует себя как рыба в воде, прохаживается по квартире, улыбается небольшим настенным часам, которые никогда не врут, расправляется с рамкой, которая не вписывается в интерьер. Он обнял меня за шею и повёл по комнатам с «хозяйским» осмотром; после головокружительного поцелуя он оставил меня в салоне (очевидно, сам он отправился работать в «Дипломатический журнал», дабы позаботиться о судьбе Европы с Якобсеном и обойтись с Абдул-Хамидом так, как он того заслуживает), напутствовав такими словами: «Мой милый деспот! Можешь царствовать в своё удовольствие».
Я долго сижу без дела, предаваясь мечтам. Часы бьют один раз, и я не знаю, который теперь час. Я встаю, совершенно растерянная и потерявшая счёт времени. Оказываюсь перед каминным зеркалом, торопливо прикалываю шляпку… чтобы идти домой.
Вот и всё. Это крах. Вам это ни о чём не говорит? Тогда вам везёт.
Чтобы идти домой! И куда же? Значит, я не дома? Нет, нет, в этом-то и состоит моё несчастье.
Чтобы идти домой! Куда? Не к папе, разумеется: он уже навалил на моей кровати горы грязных бумаг. Не в Монтиньи, потому что ни родной дом, ни Школа…
Чтобы идти домой! Стало быть, у меня нет дома? Нет! Здесь я живу у господина, которого я люблю, пусть так, но живу я у него дома! Увы, Клодина, ты – вырванный из земли стебелёк; неужто твои корни так глубоки? Что скажет Рено? Он бессилен.
Куда уйти? В себя. Вгрызться в собственную боль, безрассудную и невыразимую, и свернуться клубочком в этой ямке.
Я снова сажусь, не снимая шляпы, изо всех сил сжимаю руки: вгрызаюсь.
Мой дневник не имеет будущего. Я забросила его пять месяцев назад, остановившись на печальной ноте, и ненавижу его за это. Кстати, у меня нет времени держать его в курсе всех моих дел. Рено выводит меня в свет, вернее было бы сказать: понемногу показывает меня всем – больше, чем мне бы хотелось. Но так как он мною гордится, я не хочу причинять ему хлопот и не отказываюсь его сопровождать…
Его женитьба – я понятия об этом не имела – всколыхнула всех его знакомых из самых разных кругов. Нет, он их не знает. Зато его знают все. А он не способен назвать по имени даже половину тех, с кем обменивается сердечным рукопожатием и представляет мне. Он разбросан, неисправимо легкомысленен и по-настоящему ни к чему не привязан… кроме меня. «Кто этот господин, Рено? – Это… Его имя выскочило у меня из головы». Ну и ну! Похоже, этого требует профессия; похоже, доскональное изучение предмета перед серьёзными дипломатическими публикациями неминуемо влечёт за собой рукопожатие целой толпы хлыщей, размалёванных дам (как полусветских, так и светских с головы до ног), нескромных навязчивых актрисулек, художников и их моделей…
Но Рено, представляя меня, вкладывает в эти три слова: «Моя жена, Клодина» – столько супружеской и отеческой гордости (до чего трогательна их наивность в устах этого пресыщенного парижанина), что я оставляю при себе колкости, готовые вот-вот сорваться с языка, и не позволяю себе насмешки. И потом, у меня всегда есть возможность отыграться; когда Рено весьма неуверенно представляет мне какого-нибудь «господина… Дюрана», я с мстительной радостью переспрашиваю:
– Неужели? А третьего дня вы говорили, что его зовут Дюпон!
Светлые усы и загорелое лицо демонстрируют полную растерянность:
– Я так сказал? Ты уверена? Хорош же я! Спутал их обоих с… третьим, в общем, одним кретином, с которым я на «ты», потому что когда-то мы вместе учились в шестом классе.
Пустое! Я всё равно плохо понимаю такую фамильярность с малознакомыми людьми.
Тут и там, в коридорах Опера-Комик, на концертах Шевийяра и Колонна, на вечерах (на вечерах особенно, когда страх перед музыкой омрачает лица) меня встречали взглядами и словами далеко не благожелательными. Так я, стало быть, им не безразлична? А-а, верно, здесь я – жена Рено, как в Монтиньи он – муж Клодины. Эти парижане говорят тихо, но в моём родном краю у всех жителей такой тонкий слух, что мы слышим, как растёт трава.
Они говорят: «Слишком она молода». Они говорят: «Слишком темноволоса… выглядит подозрительно… – Как это – слишком темноволоса? У неё же рыжеватые локоны. – Зато волосы нарочно короткие, чтобы привлекать внимание! А ведь Рено во вкусе не откажешь». Они говорят: «На кого она похожа? – Верно, её предки с Монмартра. – Что-то в ней славянское: маленький подбородок и широкие скулы. – Она вышла из унисексуального романа Пьера Луи.[2] – Сколько же лет этому Рено, если он уже нравится маленьким девочкам?»
Рено, Рено… И что характерно, его зовут исключительно по имени.
Вчера муж меня спрашивает:
– Клодина, ты назначишь себе приёмный день?
– Зачем ещё?
– Чтобы поболтать, «потрепаться», как ты говоришь.
– С кем?
– Со светскими дамами.
– Я не очень люблю светских дам.
– Ну, и с мужчинами тоже.
– Не искушайте меня!.. Нет, мне не нужен свой день. Неужели вы думаете, что я смогла бы принимать у себя людей?
– А я уже объявил приёмный день.
– Да ну?! Что ж, я к вам загляну в ваш день. Пожалуй, так будет спокойнее. Не то я, пожалуй, могла бы через час сказать вашим прелестным подружкам: «Подите вон, надоели вы мне!»
Рено не настаивает (он никогда не настаивает), целует меня (он всегда меня целует), смеётся и выходит.
За эту мизантропию, за боязливое отвращение к «свету», о чём я не раз заявляла во всеуслышание, мой пасынок Марсель относится ко мне с вежливым презрением. Этот мальчик, столь равнодушный к женщинам, упорно ищет их общества, сплетничает, щупает ткани, наливает чай, не забрызгав тончайшей рубашки, и с упоением злословит. Я неправа, называя его «мальчиком». В двадцать лет уже невозможно быть мальчиком, а он надолго останется девочкой. По возвращении я нашла его ещё очаровательным, но всё-таки несколько помятым, чересчур худым; глаза кажутся непомерно большими, в них мелькает затравленное выражение, а в уголках глаз залегли три преждевременные морщинки… Неужели этим он обязан одному Шарли?
Рено сердился на этого плутишку недолго: «Не могу забыть, что это мой малыш, Клодина. И, возможно, если бы я больше им занимался…» Я прощала Марселя из равнодушия. (Равнодушия, гордыни и невысказанного любопытства– довольно непристойного – к особенностям его интимной жизни.) И я испытываю непреходящее удовольствие, поглядывая исподтишка на эту неудавшуюся девочку, на белую отметину под левым глазом, которую оставил мой коготок!
Однако этот Марсель меня удивляет. Я готовилась к тому, что он затаит злобу и будет ко мне относиться с откровенной враждебностью. Ничего подобного! Насмешки – сколько угодно, презрение – иногда случается, бывает и любопытство, но и только.
По-настоящему он занят только собой! Часто он рассматривает себя в зеркало и, надавив указательными пальцами на брови, изо всех сил оттягивает кожу на лбу. Изумившись этому жесту, довольно болезненному, оттого что он часто повторяется, я спрашиваю Марселя, что это значит. «Даю отдохнуть эпидермису под глазами», – с самым серьёзным видом отвечает Марсель. Он подводит глаза синим карандашом; он отваживается на слишком красивые запонки с бирюзой. Уф! В сорок лет он будет отвратителен…
Несмотря на то, что между нами произошло, он без смущения повторяет мне свои секреты и делает это из бессознательного хвастовства или же усугубляющегося душевного расстройства. Вчера он весь день томился у нас – грациозный, тонкий, лихорадочно возбуждённый.
– Вы производите впечатление человека измученного, Марсель.
– Так оно и есть!
Между нами принят агрессивный тон. Это игра, не больше.
– Как всегда, из-за Шарли?
– О, пожалуйста!.. Молодой женщине приличествует не знать или хотя бы забывать о некоторой путанице в мыслях… вы ведь именно так это называете: «путаница»?
– Да, чёрт возьми, так говорят: «путаница»… я бы не осмелилась прибавить «в мыслях».
– Премного вам благодарен. Но, между нами говоря, Шарли не имеет отношения к моему утомлению, этим он похвастаться не может. Шарли! Нерешительный, непостоянный…
– Неужели?
– Можете мне поверить. Я его знаю лучше, чем вы.
– И слава Богу.
– Да, в сущности, он трус.
– А с виду не скажешь.
– Мы подружились давно… Я эту дружбу не отрицаю, просто рву отношения, чему предшествовал весьма нечистоплотный инцидент.
– Как?! Красавец Шарли?.. Замешан в денежных махинациях?
– Того хуже! Он забыл у меня блокнот, а в нём – письма от женщин!
С каким злобным отвращением он выплюнул это обвинение! Я смотрю на него, глубоко задумавшись. Это сбившийся с пути несчастный мальчик, почти не отвечающий за свои действия, но он прав. Надо только поставить себя (!) на его место.
Как уже было сказано, всё в моей жизни случается внезапно: радости, огорчения, незначительные события. Это отнюдь не означает, что я специализируюсь на из ряда вон выходящих происшествиях; не будем считать моего замужества… Но время протекает для меня, как для большой стрелки некоторых уличных часов: на пятьдесят девять секунд она замирает и вдруг безо всякого перехода перепрыгивает на следующую минуту так порывисто, словно у неё нарушена координация движений. Минуты набрасываются на неё без жалости, как и на меня… Я не говорю, что это всегда и непременно неприятно, однако…
Вот мой последний порыв: я отправляюсь в гости к папе, Мели, Фаншетте и Лимасону. Этот последний – неотразимый полосатый красавец – блудит с собственной матерью и возвращает нас к чёрным дням в истории Атридов.[3] В остальное время он ходит из угла в угол, нахальный и раздражённый, мня из себя льва. К нему не перешла ни одна из добродетелей его любезной беленькой мамочки.
Мели устремляется мне навстречу, подхватив снизу рукой свою левую грудь, словно Карл Великий[4] – державу…
– Наконец-то! А я уж собиралась тебе написать!.. Если бы ты знала! Здесь всё предано огню и мечу… Слушай, а ты ничего в этой шляпке…
– Погоди-ка! Что за огонь и меч? Почему? Может, Лимасон опрокинул свою… плевательницу?
Оскорбившись моей иронией, Мели удаляется:
– Ах так? Спроси у отца, сама увидишь. Заинтригованная, я без стука вхожу к папе; он оборачивается на шум, и моему взгляду открывается огромный ящик, в который он укладывает книги. На его красивом небритом лице появляется непередаваемое выражение: наигранный гнев, неловкость, детское смущение.
– Это ты, старая кляча?
– Похоже на то. Чем это ты занимаешься, папа?
– Я… разбираю бумаги.
– Какая странная у тебя папка для бумаг! А я ведь знаю этот ящик… Он ещё из Монтиньи, да?
Папа смирился. Он застёгивает редингот на животе, не спеша садится и скрещивает руки на груди.
– Да, ящик этот приехал из Монтиньи и туда же возвращается! Это понятно?
– Отнюдь нет.
Он смотрит мне прямо в лицо, его мохнатые брови почти закрывают глаза; он понижает голос и берется за связку:
– Я бегу отсюда!
Я отлично всё поняла. Я давно чувствовала приближение этого беспричинного бегства. Зачем он приезжал в Париж? Почему теперь уезжает? Я задумываюсь. Папа – это сила Природы; он – служитель неведомой Судьбы. Сам того не зная, он сюда приехал, чтобы я могла встретиться с Рено; теперь он уходит, исполнив миссию безответственного отца…
Я промолчала, и этот страшный человек успокаивается.
– Понимаешь, с меня хватит! Я ломаю глаза в этой конуре; я имею дело с прохвостами, халтурщиками, лентяями. Стоит мне шевельнуть пальцем, как я упираюсь в стену; крылья моего разума рвутся, соприкасаясь с всеобщей безграмотностью… Проклятое стадо паршивых свиней! Я возвращаюсь в прежнюю свою халупу! Ты приедешь ко мне в гости с бродягой, за которого ты вышла замуж?

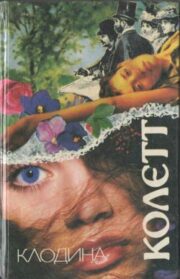
"Клодина замужем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Клодина замужем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Клодина замужем" друзьям в соцсетях.