– О! Если бы Марианна могла угадать, какое будущее ждало меня вдали от нее, если бы она могла предвидеть все муки, всю борьбу, все страхи, все тревоги, все превратности судьбы, наконец, ужасную болезнь – все, что должно было выпасть здесь на мою долю, она отказалась бы и за себя и за меня от такого страшного самопожертвования. Увы! Я был далек от мысли, что мы расстаемся навеки и что нам не суждено больше встретиться на земле!
– Как? Вы больше не виделись? – спросила Консуэло с глазами, полными слез, ибо речь Метастазио необычайно умиляла слушателей. – Она так и не приехала в Вену?
– Так никогда и не приехала! – ответил Метастазио с подавленным видом.
– Как, при такой преданности у нее не хватило мужества приехать к вам сюда? – снова воскликнула Консуэло, на которую Порпора тщетно кидал свирепые взгляды.
Метастазио ничего не ответил; казалось, он был погружен в свои думы.
– Но она ведь может еще приехать? – продолжала простодушно Консуэло. – И она, конечно, приедет. Это счастливое событие вернет вам здоровье.
Аббат побледнел, и на лице его изобразился ужас. Маэстро изо всех сил стал кашлять, и Консуэло вдруг вспомнила, что Романина умерла больше десяти лет тому назад, и поняла, что допустила огромную оплошность, напомнив о смерти ее другу, жаждущему, по его словам, только одного – соединиться в могиле со своей возлюбленной. Она закусила губу и почти тотчас же удалилась вместе со своим учителем, который, как обычно, ничего не вынес из этого посещения, кроме неопределенных обещаний и массы любезностей.
– Что ты наделала, дурочка! – напал он на Консуэло, как только они вышли.
– Большую глупость, сама вижу. Я совсем позабыла, что Романины давно нет в живых. Но неужели вы думаете, учитель, что аббат, такой любящий и такой безутешный, настолько дорожит жизнью, как вы утверждаете? Мне скорее кажется, что скорбь о потере подруги – единственная причина его болезни, и если некий суеверный страх и заставляет его бояться смертного часа, он все же искренне тяготится жизнью.
– Дитя, – сказал Порпора, – жизнью никогда не тяготится тот, кто богат, уважаем, обласкан и здоров. Если же у человека не было никогда иных забот и иной страсти, как пользоваться этими благами, то, проклиная свое существование, он лжет и разыгрывает комедию.
– Не говорите, что у него не было других страстей. Он любил Марианну, и я понимаю, почему он назвал этим дорогим именем свою крестницу и племянницу Марианну Мартинец.
Консуэло чуть не прибавила: «ученицу Йозефа», но вовремя спохватилась.
– Доканчивай, – сказал Порпора, – свою крестницу, племянницу или свою дочь.
– Так говорят, но что мне до этого?
– По крайней мере это доказало бы, что милый аббат, расставшись со своей возлюбленной, довольно скоро утешился. Но когда ты его спросила (да простит тебе Господь Бог твою глупость!), почему его дорогая Марианна не последовала за ним сюда, он ничего тебе не ответил. Так вот я отвечу за него. Романина в самом деле оказала ему величайшие услуги, какие только мужчина может принять от женщины. Она приютила его, хорошо кормила, одевала, выручала, во всем поддерживала. С ее помощью он добился звания poeta cesareo[43]. Она стала служанкой, другом, сиделкой, благодетельницей его престарелых родителей. Все это верно. У Марианны было великодушное сердце. Я ее хорошо знал. Но верно также и то, что она страстно желала соединиться с аббатом, поступив на императорскую сцену. А еще вернее, что господин аббат не только не хотел, но и не допустил этого. Правда, между ними существовала самая нежная переписка. Не сомневаюсь, что послания поэта были шедеврами. Их напечатают, и он это прекрасно знал. Но, уверяя свою dilettissima arnica[44], что он горит желанием соединиться с ней и неустанно хлопочет о приближении счастливого дня их встречи, хитрый лис устраивал дела таким образом, чтобы злополучная певица не застигла его врасплох в самом разгаре его знаменитой и весьма выгодной связи с третьей Марианной (ибо это имя было счастливой звездой его жизни) – высокородной и всемогущей графиней Альтханн, фавориткой последнего императора. Говорят даже, что связь эта завершилась тайным браком. Вот почему я нахожу весьма неуместным с его стороны рвать на себе волосы при упоминании о бедной Романине, которой он предоставил умирать с горя, в то время как сам сочинял мадригалы в объятиях придворных дам.
– Вы все истолковываете и обо всем судите с жестоким цинизмом, дорогой учитель, – сказала опечаленная Консуэло.
– Я говорю то же, что все, я ничего не выдумываю. Таково всеобщее мнение. Поверь, не все комедианты попадают на сцену. Это старинная поговорка.
– Всеобщее мнение не всегда самое верное и никогда не бывает самым доброжелательным. Да, маэстро, я не могу поверить, чтобы человек с таким именем и талантом был только комедиантом. Я видела его неподдельные слезы, и если он может упрекнуть себя в том, что слишком скоро забыл свою первую Марианну, то его раскаяние только подтверждает искренность его теперешних сожалений. Во всем этом я предпочитаю видеть скорее слабость, чем низость. Его сделали аббатом. Его осыпали милостями. Двор отличался набожностью. Его связь с актрисой произвела бы большой скандал. Он не хотел сознательно изменить Марианне Бульгарини, обмануть ее, он боялся, колебался, стремился выиграть время… А она умерла.
– И он возблагодарил провидение, – добавил беспощадный маэстро. – А теперь наша императрица шлет ему шкатулки и кольца с его вензелем из бриллиантов, писчие перья из ляпис-лазури, украшенные бриллиантовыми лаврами, массивные золотые вазы с испанским табаком, печатки из крупного цельного бриллианта, и все это так ярко сверкает, что глаза поэта не перестают слезиться…
– Да разве это может утешить его в том, что он разбил сердце Романины?
– Весьма возможно, что нет. Но жажда получить все это побудила его поступить так. Жалкое тщеславие! Мне трудно было удержаться от смеха, когда он показывал нам свой золотой подсвечник с золотым колпаком гасильника, на котором по повелению императрицы было выгравировано остроумное изречение: «Perche possa risparmiare i suoi occhi»[45].
Это было, в самом деле, так трогательно, что заставило его высокопарно воскликнуть: «Affettuosa espressione valutabile piu assai dell’oro!»[46]. О, ничтожный человек!
– О, бедный человек! – со вздохом произнесла Консуэло.
Она вернулась домой очень печальная, так как с невольным страхом сопоставляла поведение Метастазио по отношению к Марианне со своим собственным по отношению к Альберту.
«Ждать и, не дождавшись, умереть – неужели такова судьба всех тех, кто умеет страстно любить? Заставить ждать, заставить умереть от горя – неужели таков удел всех тех, кто гонится за призраком славы?» – говорила она себе.
– О чем ты задумалась? – спросил ее маэстро. – Мне кажется, все идет хорошо и, несмотря на твою оплошность, ты покорила Метастазио.
– Не велика победа над слабой душой, – ответила она, – и мне кажется, что тот, у кого не хватило мужества устроить на императорскую сцену Марианну, вряд ли найдет его для меня.
– Метастазио в вопросах искусства теперь руководит императрицей.
– Метастазио в вопросах искусства посоветует императрице только то, что ей самой будет угодно, и сколько бы ни говорили о фаворитах и советниках ее величества… я видела лицо Марии-Терезии и уверяю вас, маэстро, что Мария-Терезия слишком большой политик, чтобы иметь любовников, и слишком самовластная монархиня, чтобы иметь друзей.
– Ну, тогда надо завоевать расположение самой императрицы, – озабоченно проговорил Порпора. – Надо, чтобы ты как-нибудь утром спела в ее покоях и она побеседовала бы с тобой. Говорят, она любит людей только добродетельных. Если у нее в самом деле тот орлиный взор, какой ей приписывают, она поймет, какова ты, и окажет тебе предпочтение. Я пущу в ход все для того, чтобы императрица увидела тебя с глазу на глаз.
Глава XC
Однажды утром Йозеф, натирая пол в передней Порпоры, совершенно забыл, что перегородка тонка, а сон маэстро чуток, и машинально стал напевать вполголоса какую-то музыкальную фразу, пришедшую ему в голову, сопровождая пение ритмическими движениями щетки. Порпора, недовольный, что его разбудили раньше времени, заворочался в кровати, попытался снова заснуть, однако, преследуемый звуками красивого, свежего голоса, легко и верно повторяющего весьма изящную, прекрасно отделанную музыкальную фразу, маэстро накинул халат и, очарованный мелодией, хотя в то же время немного досадуя на артиста, который, не дождавшись его пробуждения, бесцеремонно явился к нему сочинять свои арии, встал и поглядел в замочную скважину. Каково же было его удивление: пел Беппо, пел и мечтал, развивая свою музыкальную идею и продолжая с озабоченным видом уборку комнаты.
– Что ты там поешь? – громовым голосом крикнул маэстро, неожиданно открывая дверь.
Йозеф, ошеломленный, как человек, внезапно разбуженный от сна, чуть было не бросил щетку с метелкой и не убежал со всех ног из дома. Однако, давно уже потеряв надежду стать учеником Порпоры, он все-таки считал за счастье слушать, как Консуэло занимается с маэстро, и пользовался втихомолку, в отсутствие учителя, уроками своей великодушной приятельницы. Поэтому он больше всего на свете боялся, как бы его не выгнали, и поспешил солгать, чтобы рассеять подозрения.
– Что я пою? – повторил он, совершенно растерявшись. – Да я сам не знаю, маэстро.
– Разве поют то, чего не знают? Ты лжешь!
– Уверяю вас, маэстро, право не знаю! Вы так меня напугали, что я все забыл. Конечно, я страшно виноват, что пел подле вашей комнаты. Очень уж я рассеян; мне показалось, что я где-то далеко отсюда, совсем один, и я подумал: «Теперь ты можешь петь, никого нет, никто не скажет: «Замолчи, невежда, ты поешь фальшиво. Замолчи, скотина: ты так и не мог научиться музыке».
– Кто сказал тебе, что ты поешь фальшиво?
– Да все говорили.
– А я говорю тебе, – закричал строгим голосом маэстро, – что ты поешь не фальшиво. Кто же пробовал учить тебя музыке?
– Ну… например, маэстро Рейтер, – его бреет мой друг Келлер. И Рейтер прогнал меня с урока, говоря, что как я есть осел, так им и останусь.
Йозеф уже хорошо знал антипатии маэстро, знал, какого невысокого мнения он был о Рейтере, и рассчитывал войти в милость к Порпоре, если Рейтер дурно отзовется при нем о своем бывшем ученике. Но Рейтер во время своих редких посещений этого дома, встречая Йозефа в прихожей, не желал даже узнавать его.
– Маэстро Рейтер сам осел, – сквозь зубы пробормотал Порпора. – Но дело не в том, – добавил он уже громко, – я хочу знать, откуда ты выудил свою музыкальную фразу.
Он пропел ту фразу, которую по рассеянности Йозеф заставил его прослушать десять раз подряд.
– Ах, эту! – сказал Гайдн: ему показалось, что маэстро уже несколько лучше настроен, хоть он и боялся еще верить этому. – Я слышал, как ее пела синьора.
– Консуэло? Моя дочь? А я и не знал. Ах! Так ты, значит, подслушиваешь у дверей?
– О нет, сударь! Но музыка разносится из комнаты в комнату и доходит до кухни – невольно слышишь…
– Мне не нравятся слуги с такой памятью, слуги, которые будут распевать на улице наши еще неизданные произведения. Ты сегодня же уложишь свои вещи и вечером отправишься искать себе другое место.
Приговор маэстро как громом поразил бедного Йозефа, и он отправился плакать на кухню, куда вскоре пришла к нему Консуэло и, выслушав рассказ о его злоключениях, успокоила его, пообещав все уладить.
– Как, маэстро? – обратилась она к Порпоре, подавая ему кофе. – Ты хочешь выгнать бедного мальчика, трудолюбивого и добросовестного, только за то, что ему первый раз в жизни удалось спеть, не сфальшивив?
– Говорю тебе, что этот малый интриган и наглый лгун. Его подослал ко мне кто-нибудь из врагов, дабы выведать мои еще неизданные произведения и присвоить их себе раньше, чем они увидят свет. Ручаюсь, что этот плут знает уже наизусть мою новую оперу и за моей спиной переписывает мои рукописи. Сколько раз предавали меня подобным образом! Сколько моих замыслов находил я в красивых операх, привлекавших всю Венецию, в то время как на моих публика зевала, говоря: «Этот старый болтун Порпора потчует нас новинками, затасканными на всех перекрестках». И вот дуралей себя выдал: сегодня утром он спел отрывок, который может исходить только от господина Гассе и который я хорошо запомнил. Я запишу его и из мести помещу в свою новую оперу, чтобы отплатить Гассе за шутки, которые он не раз проделывал со мной.
– Берегитесь, маэстро, фраза эта, может быть, уже напечатана. Вы ведь не знаете на память всех современных произведений.
– Но я слышал их и говорю тебе, что эта фраза слишком значительна, я не мог бы не обратить на нее внимания.
– В таком случае, маэстро, благодарю вас. Я горжусь похвалой, ибо фраза эта моя!
Консуэло лгала: музыкальная фраза, о которой шла речь, только этим утром родилась в голове Гайдна, но Консуэло сговорилась с ним и уже успела выучить мелодию наизусть, чтобы не попасть впросак перед недоверчивым, пытливым учителем. Порпора не преминул потребовать от нее эту злополучную фразу. Консуэло тотчас спела ее и заявила, что накануне, желая угодить Метастазио, попробовала положить на музыку первые строфы его красивой пасторали:

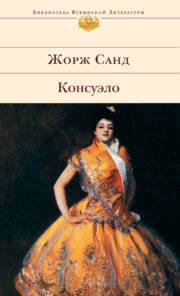
"Консуэло" отзывы
Отзывы читателей о книге "Консуэло". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Консуэло" друзьям в соцсетях.