Это успокаивающе действовало на Консуэло, начинавшую уже волноваться по поводу долгого молчания Альберта. Каноник был человек веселого нрава, целомудренный и в то же время свободомыслящий, очаровательный во многих отношениях, справедливый и весьма просвещенный в различных областях. Словом, это был прекрасный друг и чрезвычайно милый собеседник. Его общество оживляло и ободряло маэстро, настроение последнего заметно улучшилось, а вследствие этого и домашняя жизнь Консуэло стала легче.
Однажды, когда не было репетиций (за два дня до первого представления «Антигоны»), Порпора отправился за город с одним из своих коллег, а каноник предложил Йозефу и Консуэло нагрянуть всем вместе в аббатство, чтобы захватить врасплох оставленных там слуг и, словно свалившись на них с неба, самим убедиться, хорошо ли ухаживает садовница за Анджелой, а садовник – за волкамерией. Молодые люди охотно согласились. Карету каноника нагрузили пирожками и бутылками, ибо нельзя совершить путешествие в четыре лье, не нагуляв аппетита. Подъезжая к усадьбе, путники сделали небольшой крюк и, оставив экипаж на некотором расстоянии от ворот, пошли пешком, так как хотели явиться совершенно неожиданно.
Волкамерия чувствовала себя превосходно: она стояла в тепле, и корни ее освежала влага. С наступлением холодов она перестала цвести, но ее красивые листья, нимало не тронутые увяданием, красиво ложились вокруг ее стройного ствола. Оранжерея содержалась в полном порядке, голубые хризантемы, не боясь зимы, казалось, смеялись за стеклянными перегородками. Анджела, прильнув к груди кормилицы, начинала уже смеяться, когда с ней заигрывали, и каноник весьма разумно заметил, что не следует злоупотреблять этой забавой, так как вызываемый слишком часто насильственный смех развивает у малюток чрезмерную нервозность.
Так они сидели, непринужденно болтая, в хорошеньком домике садовника. Каноник, закутавшись в меховую душегрейку, грел ноги у очага, где пылали сухие корни и сосновые шишки. Йозеф играл с прелестными детьми красивой садовницы, а Консуэло, сидя посреди комнаты с маленькой Анджелой на руках, смотрела на нее со смешанным чувством нежности и скорби: ей казалось, что этот ребенок принадлежит ей больше, чем кому бы то ни было, и таинственный рок связывает его судьбу с ее собственной. Вдруг дверь отворилась, и перед ней, словно видение, вызванное ее грустными думами, предстала Корилла.
Впервые после родов Корилла почувствовала если не прилив материнской любви, то нечто вроде угрызений совести и украдкой явилась проведать своего ребенка. Она знала, что каноник живет в Вене. Приехав через полчаса после него и не видя у ворот следов его коляски, так как он сошел раньше, она тайком, никого не встретив, пробралась садами до домика, где, по ее сведениям, жила у своей кормилицы Анджела – ибо Корилла все-таки навела кое-какие справки на этот счет. Она очень потешалась над замешательством и христианским смирением каноника, но совершенно не знала, какое участие принимала в этом приключении Консуэло, поэтому с удивлением, к которому примешались страх и смущение, увидела она здесь свою соперницу. Не зная и не смея догадываться, чье дитя та укачивает, она чуть было не обратилась в бегство. Но Консуэло, невольно прижавшая ребенка к груди, точно куропатка, прячущая птенца под крыло при появлении коршуна, Консуэло, артистка того же театра, способная на следующий день представить всем известную тайну Кориллы совсем не в том свете, в каком та сама ее изображала, наконец – Консуэло, смотревшая на нее со страхом и негодованием, потрясла ее своим присутствием до такой степени, что Корилла, словно пригвожденная или зачарованная, остановилась посреди комнаты.
Однако она была слишком опытной актрисой и потому быстро пришла в себя и обрела дар слова. Ее тактика заключалась в том, чтобы, оскорбляя других, самой избежать унижения. И тут же, входя в роль, она наглым, резким голосом обратилась к Консуэло на венецианском наречии:
– Черт возьми! Бедная моя цыганочка! Что ж, этот дом – приют для подкидышей, что ли? Ты тоже явилась сюда, чтобы взять или оставить здесь своего детеныша? Видно, у нас с тобой одно счастье, одна судьба. Без сомнения, у наших детей и отец один и тот же: ведь наши с тобой приключения начались в Венеции одновременно. И я убедилась, сокрушаясь о тебе, что красавец Андзолетто сбежал от нас в прошлом сезоне, прервав свой ангажемент, вовсе не для того, чтобы погнаться за тобой, как все думали.
– Сударыня, – ответила Консуэло, бледная, но спокойная, – если бы я имела несчастье быть в таких же близких отношениях с Андзолетто, как вы, и вследствие этого имела бы счастье стать матерью (так как это всегда счастье для женщины, умеющей чувствовать), дитя мое не было бы здесь.
– А! Понимаю! – продолжала та с мрачным огнем в глазах. – Его воспитывали бы на вилле Дзустиньяни. У тебя хватило бы ума, которого у меня не нашлось, уверить милого графа, что его честь требует признания ребенка. Но ты не имела несчастья, как уверяешь, быть любовницей Андзолетто, а Дзустиньяни был настолько счастлив, что не оставил тебе доказательств своей любви. Говорят, Йозеф Гайдн, ученик твоего учителя, утешил тебя во всех твоих злоключениях, и, без сомнения, дитя, которое ты укачиваешь…
– Ваше, сударыня! – воскликнул Йозеф, который теперь прекрасно понимал венецианское наречие, и встал между Консуэло и Кориллой с таким грозным видом, что заставил последнюю отступить. – Вам это свидетельствует Йозеф Гайдн, ибо он присутствовал при том, как вы производили на свет этого ребенка.
Лицо Йозефа, не встречавшегося Корилле с того злосчастного дня, тотчас воскресило в ее памяти все подробности, которые она тщетно силилась припомнить, а в цыганочке Консуэло она узнала, наконец, черты цыганенка Бертони. У Кориллы невольно вырвался возглас удивления, и с минуту в душе ее шла борьба между стыдом и досадой. Но вскоре цинизм снова вернулся к ней, и из ее уст вновь посыпались оскорбления.
– По правде сказать, дети мои, я вас сразу и не признала! – воскликнула она до нельзя слащавым тоном. – Оба вы были очень милы, когда я встретила вас во время ваших похождений, а переодетая Консуэло была в самом деле красивым мальчиком. Так, значит, здесь, в этой святой обители, она и провела благочестиво в обществе толстого каноника и молоденького Йозефа целый год после того, как убежала из Венеции? Ну, цыганочка, не беспокойся, дитя мое! Теперь каждая из нас знает тайну другой, а императрица, желающая все знать, ничего не узнает ни об одной из нас!
– Предположим даже, Корилла, что у меня есть тайна, – холодно проговорила Консуэло, – но она оказалась в ваших руках только сегодня, а я уже знала вашу тогда, когда целый час говорила с императрицей за три дня до подписания вами ангажемента.
– И ты наговорила обо мне всяких гадостей? – закричала Корилла, краснея от злости.
– Если бы я рассказала то, что знаю о вас, вы не получили бы ангажемента, а раз вы получили его, значит, я не захотела воспользоваться случаем.
– Почему же ты этого не сделала? Уж очень ты глупа, должно быть! – воскликнула Корилла, невольно обнаруживая всю свою порочность.
Консуэло и Йозеф, переглянувшись, не могли не улыбнуться друг другу. Улыбка Йозефа была исполнена презрения к Корилле, но ангельская улыбка Консуэло словно возносилась к небу.
– Да, сударыня, – ответила она с подавляющей кротостью, – я именно такая, как вы сказали, и считаю это благом для себя.
– Не такое уж это благо, бедняжка, раз я ангажирована, а ты нет! – возразила озадаченная и несколько встревоженная Корилла. – Мне говорили еще в Венеции, что у тебя не хватает ума и ты никогда не сумеешь вести свои дела! Это единственно верное из всего, что рассказывал о тебе Андзолетто. Но что поделаешь! Не моя вина, что ты такова… На твоем месте я рассказала бы все, что знала о Корилле, а себя выставила бы целомудренной, святой… Императрица поверила бы всему: ее нетрудно убедить… и я вытеснила бы всех своих соперниц. Но ты ничего не сказала!.. Это странно, и мне жаль тебя: ты не умеешь устраиваться.
На этот раз презрение оказалось сильнее негодования. Консуэло и Йозеф расхохотались, а Корилла, почувствовав, что ее соперница не столь бессильна, потеряла свою задорную язвительность, которой вооружилась было на первых порах, отбросила всякое стеснение, придвинула стул к очагу и собралась спокойно продолжать разговор, чтобы лучше выведать сильные и слабые стороны своих противников. Но в этот момент она очутилась лицом к лицу с каноником, которого до сих пор не заметила, ибо, руководясь инстинктивной осторожностью духовного лица, он сделал знак дебелой кормилице и ее двум детям заслонить его, пока он не разберется в происходящем.
Глава XCIV
После только что брошенного грязного намека на отношения Консуэло и толстого каноника появление этого последнего ошеломило Кориллу, словно она увидела голову Медузы. Но она успокоилась, вспомнив, что говорила на венецианском наречии, и поздоровалась с каноником по-немецки с той смесью смущения и наглости, какими отличаются взгляд и лицо женщины легкого поведения. Каноник, обычно столь вежливый и любезный, тут, однако, не только не встал, но даже не ответил на ее поклон. Корилла, много расспрашивавшая о нем в Вене и слышавшая от всех, что он чрезвычайно хорошо воспитан, большой любитель музыки, человек, не способный читать строгие наставления женщине, особенно певице, все собиралась повидаться с ним и пустить в ход свои чары, чтобы помешать ему дурно отзываться о ней. Но если в подобных делах она обладала сметливостью, которой не хватало Консуэло, то вместе с тем ей присущи были беспечность и безалаберность, порожденные распущенностью, ленью и даже, хоть это может показаться здесь неуместным, нечистоплотностью. У грубых натур все эти слабости цепляются одна за другую. Изнеженность души и тела парализует осуществление задуманного, и у Кориллы, по природе своей способной на любое коварство, редко хватало энергии довести интригу до конца. Со дня на день откладывала она посещение каноника, и теперь, когда он оказался таким холодным и строгим, она, видимо, смутилась.
И вот, стремясь смелой выходкой поправить дело, она обратилась к Консуэло, продолжавшей держать на руках Анджелу:
– Послушай, почему ты не даешь мне поцеловать мою дочку и положить ее к ногам господина каноника, чтобы…
– Госпожа Корилла, – прервал ее каноник тем сухим, насмешливо-холодным тоном, каким он прежде говорил «госпожа Бригитта», – будьте добры, оставьте этого ребенка в покое.
И, выражаясь по-итальянски с большой изысканностью, хотя и немного медленно, он продолжал, не снимая шапочки, надвинутой на уши:
– Вот четверть часа, как я вас слушаю, и, хотя не очень хорошо знаком с вашим наречием, все же понял достаточно, и скажу вам, что вы самая наглая негодяйка, какую я встречал в своей жизни. Но все-таки я думаю, что вы скорее глупы, чем злы, скорее достойны презрения, чем опасны. Вы ничего не смыслите в прекрасных поступках, и мы напрасно пытались бы объяснить их вам. Одно могу вам сказать: говоря с этой девушкой, этой девственницей, этой святой, как вы сейчас в насмешку назвали ее, вы оскверняете ее! Не говорите же с ней! Что касается ребенка, рожденного вами, то, прикоснувшись к нему, вы замарали бы его. Не троньте же его! Ребенок – существо священное. Консуэло это сказала, и я понял ее. Только по просьбе и благодаря уговорам этой самой Консуэло я рискнул взять на свое попечение вашу дочь, не убоявшись того, что в один прекрасный день дурные наклонности, которые она может унаследовать от вас, заставят меня раскаяться в этом. Мы сказали себе, что милость Божья дает возможность всякому существу познать и творить добро, и мы обещали себе преподать ей добро и помочь ей творить его легко и радостно. Останься ребенок у вас, все было бы совсем иначе. Соблаговолите же с сегодняшнего дня не считать больше Анджелу своей дочерью. Вы покинули ее, уступили, отдали – она больше вам не принадлежит. Вы передали нам известную сумму денег – как плату за ее воспитание…
Он сделал знак кормилице, и та, предупрежденная им за несколько минут до того, вынула из шкафа перевязанный и запечатанный мешочек, тот самый, который прислала Корилла канонику вместе с дочерью и который так и не был открыт. Каноник взял его и, бросив к ногам Кориллы, прибавил:
– Мы не нуждаемся в ваших деньгах и не хотим их. А теперь я прошу вас оставить мой дом и никогда, ни под каким предлогом, больше сюда не являться. При этих условиях, а также если вы обещаете, что никогда не позволите себе сказать ни единого слова о тех обстоятельствах, которые заставили нас войти с вами в сношения, мы, со своей стороны, обещаем вам полное молчание по поводу всего, что вас касается. В противном случае предупреждаю: у меня больше средств, чем вы думаете, довести всю правду до сведения ее императорского величества, и тогда очень возможно, что лавровые венки и восторженные овации ваших театральных поклонников сменятся на несколько лет монастырем для кающихся грешниц.

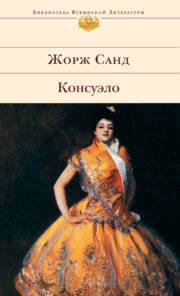
"Консуэло" отзывы
Отзывы читателей о книге "Консуэло". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Консуэло" друзьям в соцсетях.