Придирчиво и строго разобравшись в себе, Консуэло поняла, что нисколько не заблуждается относительно Андзолетто и что от чувства к нему в ней не осталось и следа. Она уже не любила его в настоящем, боялась и почти ненавидела, думая о будущем, которое могло бы только развратить его еще больше, но она так обожала его в прошлом, что была не в силах вырвать его ни из своей жизни, ни из своей души. Теперь он был для нее как бы портретом, напоминающим любимое существо и сладостные дни, и, подобно вдове, которая тайком от нового супруга любуется изображением его предшественника, она чувствовала, что умерший занимает в ее сердце больше места, чем живой.
Глава LX
Консуэло была девушкой рассудительной и обладала возвышенной душой, а потому не могла не знать, что из двух чувств, которые она внушала, наиболее искренним, наиболее благородным и наиболее ценным было, без сомнения, чувство Альберта. Теперь, когда оба очутились перед нею, ей сначала показалось, что она одержала победу над своим врагом. Глубокий взгляд Альберта, словно проникший ей в душу, долгое и крепкое пожатие его преданной руки дали ей понять, что он знает, чем кончился ее разговор с графом Христианом, и готов с покорностью и признательностью ждать своего приговора. В самом деле, Альберт не надеялся даже на такой ответ, и теперь его радовала самая нерешительность Консуэло – до того он был далек от самонадеянной заносчивости Андзолетто. Последний, наоборот, вооружился всей своей самоуверенностью. Примерно догадываясь о том, что происходит в замке, он решил идти напролом, рискуя даже быть выброшенным за дверь. Его развязные манеры, иронический, дерзкий взгляд вызывали в Консуэло глубочайшее отвращение, а когда он с наглым видом подошел, намереваясь вести ее к столу, она отвернулась и взяла руку, предложенную ей Альбертом.
Как всегда, молодой граф сел напротив Консуэло, – старый Христиан усадил ее налево от себя, на место, прежде занимаемое Амалией, а после ее отъезда предоставленное Консуэло. Но вместо капеллана, обычно сидевшего слева от Консуэло, канонисса пригласила сесть между ними мнимого братца; таким образом, едкие колкости, тихо произносимые Андзолетто, могли достигать ушей молодой девушки, а непочтительные остроты, как он и рассчитывал, – вызывать негодование старого священника.
План Андзолетто был чрезвычайно прост: он хотел возбудить к себе ненависть, стать невыносимым для тех членов семьи, которые, как он чувствовал, были настроены враждебно к предполагаемому браку; своими дурными манерами, фамильярным тоном, неуместными речами он рассчитывал создать самое отвратительное представление о среде и родственниках Консуэло. «Посмотрим, – говорил он себе, – переварят ли они братца, которого я им преподнесу».
Андзолетто, недоучившийся певец и посредственный трагик, был прирожденным комиком. Он достаточно насмотрелся на светское общество и научился подражать изысканным манерам и любезным речам благовоспитанных людей, но подобная роль могла только примирять канониссу с низким происхождением невесты, а потому он начал показывать себя совсем с другой стороны, что ему давалось с большей легкостью. Убедившись в том, что Венцеслава, намеренно говорившая только на немецком языке, принятом при дворе и в благонравном обществе, тем не менее не пропускает ни одного из сказанных им итальянских слов, Андзолетто стал без умолку болтать, то и дело прикладываясь к доброму венгерскому вину, действия которого он ничуть не опасался, ибо давно уже привык к самым крепким напиткам; он, однако, притворился, будто всецело находится под влиянием жгучих винных паров, желая выставить себя завзятым пьяницей.
План его удался как нельзя лучше. Граф Христиан, сначала снисходительно смеявшийся над его шутовскими выходками, вскоре стал только натянуто улыбаться и вынужден был призвать на помощь всю свою светскую обходительность, все свои отеческие чувства, чтобы не поставить на место несносного юношу, который мог стать шурином его благородного сына. Капеллан не раз в негодовании подпрыгивал на стуле, бормоча по-немецки нечто напоминающее заклинание злых духов. Обед был для него, таким образом, совершенно испорчен, и никогда в жизни его пищеварение так не страдало. Канонисса слушала все невоздержанные, грубые речи гостя со скрытым презрением и несколько злорадным удовольствием. При каждой новой выходке Андзолетто она поднимала глаза на брата, словно призывая его в свидетели, а добродушный Христиан опускал голову, силясь каким-нибудь, не всегда удачным, замечанием отвлечь внимание слушателей. Тогда канонисса бросала взгляд на Альберта, но Альберт был невозмутим – казалось, он не видит и не слышит своего бесцеремонного веселого гостя.
Из всех присутствующих более всех была удручена, несомненно, бедная Консуэло. Сначала она подумала, что распущенность и циничность Андзолетто, которых она раньше в нем не замечала, являются результатом его развратной жизни, ибо никогда прежде он не бывал таким в ее присутствии. Это настолько возмутило и поразило ее, что она хотела даже уйти из-за стола. Но когда она поняла, что все это не что иное, как его хитрость, то вновь обрела хладнокровие, свойственное ей, скромной и полной достоинства девушке. Она никогда не стремилась проникнуть в тайны и во взаимоотношения семьи Рудольштадтов, чтобы разными происками добиться положения, которое ей ныне предлагали. Это положение ни на минуту не польстило ее тщеславию, и совесть говорила ей, насколько несправедливы обвинения, тайно возводимые на нее канониссой. Она знала, она прекрасно видела, что любовь Альберта, доверие его отца выше этого ничтожного испытания. Презрение, внушаемое ей низким и злобным в своей мести Андзолетто, придало ей еще больше силы. Глаза ее лишь раз встретились с глазами Альберта, и они поняли друг друга. Консуэло сказала: «Да», а Альберт ответил: «Несмотря ни на что!».
– Подожди радоваться, – шепнул ей Андзолетто, перехвативший и истолковавший этот взгляд по-своему.
– Вы очень добры ко мне, благодарю вас, – ответила Консуэло.
Они переговаривались с быстротой, свойственной венецианскому наречию, которое состоит словно из одних сливающихся друг с другом гласных, так что итальянцы Рима и Флоренции сами на первых порах с трудом его понимают.
– Я сознаю, что в эту минуту ты ненавидишь меня, – говорил Андзолетто, – и воображаешь, что будешь ненавидеть вечно, но все-таки тебе от меня не уйти.
– Вы слишком рано сбросили маску, – сказала Консуэло.
– Но не слишком поздно, – возразил Андзолетто. – Сделайте милость, padre mio benedetto[25], – обратился он к капеллану, толкнув его под локоть так, что тот пролил на свои брыжи половину вина, которое подносил ко рту. – Пейте смелее это славное винцо, оно столь же полезно для души и тела, как вино святой мессы!
– Ваше сиятельство, – обратился он к старому графу, протягивая свой бокал, – у вас там с левой стороны, возле самого сердца, стоит в запасе флакончик из желтого хрусталя, горящий, как солнце. Уверен, что стоит мне выпить одну каплю этого нектара, и я превращусь в полубога.
– Берегитесь, дитя мое, – проговорил граф, положив худую руку в перстнях на граненое горлышко графина, – вино стариков порою сковывает уста молодым.
– От злости ты стала красива, как бесенок, – заметил Андзолетто своей соседке на чистом итальянском языке, чтобы все его поняли. – Ты напоминаешь мне Дьяволицу из оперы Галуппи, которую ты так чудесно сыграла в прошлом году в Венеции. Кстати, ваше сиятельство, долго вы намерены держать здесь мою сестрицу в вашей золоченой, обитой шелком клетке? Предупреждаю: она птичка певчая, а птица, которой не дают петь, быстро теряет оперение. Я понимаю, что она счастлива здесь, но та славная публика, которую она свела с ума, настойчиво требует ее возвращения. Что касается меня, то, подари вы мне ваше имя, ваш замок, все вина вашего погреба с вашим почтеннейшим капелланом в придачу, я ни за что не расстанусь с моими театральными лампами, моими котурнами и моими руладами.
– Вы, стало быть, тоже актер? – сухо, с холодным презрением спросила канонисса.
– Актер, шут, к вашим услугам, illustrissima[26], – без всякого смущения отвечал Андзолетто.
– И у него есть талант? – спросил у Консуэло старый граф Христиан со свойственным ему добродушным спокойствием.
– Ни малейшего, – промолвила Консуэло, с сожалением глядя на своего противника.
– Если это так, то ты себя же порочишь, – сказал Андзолетто, – ведь я твой ученик. Однако надеюсь, – продолжал он по-венециански, – что у меня хватит таланта, чтобы смешать твои карты.
– Вы навредите только самому себе, – возразила Консуэло на том же наречии, – дурные намерения загрязняют сердце, а ваше сердце потеряет при этом гораздо больше, чем вы заставите меня потерять в сердцах других.
– Очень рад, что ты принимаешь мой вызов. Начинай же, прекрасная воительница! Как ни опускаете вы свое забрало, а я вижу в блеске ваших глаз досаду и страх.
– Увы! Вы можете прочесть в них лишь глубокое огорчение. Я думала, что смогу забыть, какого презрения вы достойны, а вы стараетесь мне это напомнить.
– Презрение и любовь зачастую отлично уживаются.
– В низких душах.
– В душах самых гордых, так было и будет всегда.
Так прошел весь обед. Когда перешли в гостиную, канонисса, желая, по-видимому, потешиться наглостью Андзолетто, попросила его что-нибудь спеть. Он не заставил себя упрашивать и, ударив сильными пальцами по клавишам старого, дребезжащего клавесина, запел одну из тех залихватских песен, которыми оживлял интимные ужины Дзустиньяни. Слова были малопристойны, и канонисса не поняла их, но ее забавлял пыл, с каким пел Андзолетто. Граф Христиан не мог не восхититься красивым голосом певца и необычайной легкостью исполнения и теперь простодушно наслаждался, слушая его. После первой песни он попросил Андзолетто спеть еще. Альберт, сидя подле Консуэло, ничего, казалось, не слышал и не проронил ни слова. Андзолетто вообразил, будто молодой граф раздосадован и сознает, что над ним, наконец, одержали верх. Он позабыл о своем намерении разогнать слушателей непристойными ариями и, убедившись, что, либо из-за наивности хозяев, либо из-за их незнания венецианского наречия, это совершенно напрасный труд, поддался соблазну покрасоваться и запел ради удовольствия петь; кроме того, ему хотелось показать Консуэло свои успехи. Он и в самом деле подвинулся вперед в тех пределах, какие были для него доступны. Голос его, быть может, потерял свою первоначальную свежесть, разгульная жизнь лишила его юношеской мягкости, зато теперь Андзолетто лучше владел им и с большим умением преодолевал трудности, к которым его всегда влекло. Он пел хорошо и получил много похвал от графа Христиана, канониссы и даже капеллана, любителя виртуозных пассажей, не способного оценить манеру Консуэло, слишком простую и естественную, чтобы, на его взгляд, быть изысканной.
– Вы говорили, что у него нет таланта, – сказал граф, обращаясь к Консуэло, – вы слишком строги или слишком скромны в отношении своего ученика. Он очень талантлив, и наконец-то я вижу в нем что-то общее с вами.
Добрый Христиан хотел этим маленьким триумфом Андзолетто загладить унижение, которое перенесла мнимая сестра из-за его выходок. Он усиленно подчеркивал достоинства певца, а тот слишком любил блистать, да и скверная роль, навязанная им самому себе, начала уже надоедать ему, и, заметив, что граф Альберт становится все более задумчив, Андзолетто снова сел за клавесин. Канонисса, дремавшая обыкновенно при исполнении длинных музыкальных пьес, попросила спеть еще какую-нибудь венецианскую песенку, и на этот раз Андзолетто выбрал более приличную. Он знал, что лучше всего ему удавались народные песни. Даже у Консуэло особенности венецианского наречия не звучали так естественно и отчетливо, как у этого сына лагун, прирожденного певца и мима.
Он так чудесно изображал то грубоватую вольность рыбаков Истрии, то остроумную, удалую бесшабашность гондольеров Венеции, что невозможно было без живого интереса слушать его и смотреть на него. Его красивое, подвижное и выразительное лицо становилось то суровым и гордым, как у первых, то ласковым и насмешливо-веселым, как у вторых. Его безвкусный, кокетливый наряд, от которого за милю отдавало Венецией, еще усиливал впечатление и в данный момент не только не портил его, но, напротив, ему шел. Консуэло, вначале безразличная, вскоре вынуждена была притвориться холодной и рассеянной. Волнение все более и более охватывало ее. В Андзолетто она узнавала всю Венецию, а в этой Венеции – всего Андзолетто прежних дней, с его беспечным нравом, целомудренной любовью и ребяческой гордостью. Глаза ее наполнились слезами, а забавные пассажи Андзолетто, смешившие других, будили в ее сердце глубокую нежность.
После народных песен граф Христиан попросил Андзолетто исполнить духовные.
– О, что касается этих песнопений, я знаю все, какие только исполняются в Венеции, но они на два голоса, и если сестра – а она тоже их знает – не захочет петь со мной, то я не смогу исполнить желание ваших сиятельств.

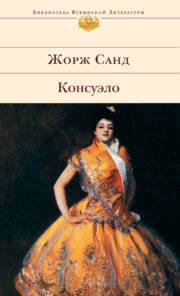
"Консуэло" отзывы
Отзывы читателей о книге "Консуэло". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Консуэло" друзьям в соцсетях.