– Да, – проговорила Консуэло, – они поставляют человеческое мясо по столько-то за унцию! Ах, ваш великий король – настоящее чудовище! Но будьте покойны, господин барон, можете говорить, не стесняясь: вы совершили доброе дело, освободив бедного дезертира, и я предпочел бы вынести пытки, предназначенные ему, чем вымолвить слово, могущее вам повредить.
Тренк, человек по натуре горячий, не признавал осторожности; в то время он уже был озлоблен непонятной суровостью и несправедливостью к нему Фридриха и находил горькое удовольствие, разоблачая перед графом Годицем беззакония того самого государственного строя, преступлений которого он был свидетелем и соучастником в дни своего благоденствия, когда взгляды его не были еще столь справедливы и строги. Теперь же, тайно преследуемый, хотя по видимости облеченный доверием короля и получивший важное дипломатическое поручение к Марии-Терезии, он начинал ненавидеть своего повелителя и слишком откровенно выказывал свои чувства. Он обрисовал графу страдания, рабство и отчаяние многочисленной прусской армии, неоценимой на поле боя, но настолько опасной в мирное время, что приходилось для обуздания ее прибегать к системе беспримерного террора и жестокости. Рассказал и об эпидемии самоубийств, свирепствующей в армии, и о преступлениях, совершаемых солдатами, даже честными и набожными, с единственной целью добиться смертного приговора и избавиться таким путем от ужасов жизни, на которую их обрекли.
– Поверите ли, – говорил он, – что они особенно стремятся попасть в ряды так называемых поднадзорных? Надо вам сказать, что эти поднадзорные пополняются за счет рекрутов-иностранцев (главным образом похищенных) или за счет прусской молодежи. В начале своего военного поприща, кончающегося для них только вместе с жизнью, все они предаются безмерному отчаянию. Их выстраивают рядами и, как в мирное, так и в военное время, заставляют маршировать впереди шеренги солдат более покорных или более решительных, получивших приказ стрелять в каждого идущего перед ним при малейшей попытке к бегству или неповиновению. Если эта шеренга не выполнит приказа, то следующая за ней, составленная из людей еще более бесчувственных и более жестоких (а такие встречаются среди старых, очерствелых вояк и добровольцев, почти сплошь негодяев), обязана стрелять в обе передние; если же оплошает и третья, то следующая за ней, и так далее. Таким образом, каждый солдат имеет во время боя врага перед собой и врага позади себя, но равных себе – товарищей или братьев по оружию – нигде. Повсюду насилие, смерть и ужас. Только таким способом, говорит великий Фридрих, создаются непобедимые солдаты. Так вот именно в первых рядах и домогается места прусский рекрут, а добившись его и потеряв всякую надежду на спасение, он бросает оружие и бежит, чтобы навлечь на себя пули своих товарищей. Этот отчаянный порыв спасает некоторых; ценою крайнего риска и невероятных опасностей им порой удается бежать, а иногда и перейти к врагу. Король прекрасно знает, с каким ужасом относятся в армии к его железному игу. И вам, быть может, известна острота, которую он сказал своему племяннику, герцогу Брауншвейгскому, присутствовавшему на одном из его больших парадов и не перестававшему восхищаться прекрасной выправкой и блестящими маневрами войск.
«Вас удивляет, – обратился к нему Фридрих, – такое сборище стольких молодчиков и их единодушие, а меня несравненно больше удивляет нечто другое».
«Что же?» – спросил молодой герцог.
«Да то, что мы с вами находимся среди них в полной безопасности», – ответил король.
– Барон, дорогой барон! – возразил граф Годиц. – Это оборотная сторона медали. Чудес в человеческом обществе не бывает. Как мог бы Фридрих быть величайшим полководцем своего времени, если бы отличался голубиной кротостью?.. Знаете что? Не говорите больше о нем. А то, пожалуй, вы вынудите меня, естественного врага Фридриха, вступиться за него против вас, его адъютанта и любимца!
– Из того, как он обращается со своими любимцами в те минуты, когда на него найдет каприз, можно судить о том, как он поступает со своими рабами. Но вы правы: не будем больше говорить о нем, а то у меня является дьявольское желание вернуться в лес и собственными руками передушить его усердных поставщиков человеческого мяса, которых я пощадил из-за глупой и трусливой осторожности.
Великодушная горячность барона пришлась по сердцу Консуэло. Она с интересом слушала его живые рассказы о прусской военной жизни и, не зная, что к смелому негодованию барона примешивается доля личной досады, видела в нем человека редкого благородства. Тренк в самом деле обладал благородной душой. Гордый молодой красавец не был рожден для низкопоклонства. Этим он резко отличался от своего случайного дорожного приятеля, надменного богача Годица. Последний, в детстве приводивший в ужас и отчаяние своих воспитателей, был в конце концов предоставлен самому себе, и, хотя теперь он уже вышел из возраста буйных шалостей, все же в его манерах и разговорах оставалось что-то мальчишеское, противоречащее его исполинской фигуре и красивому лицу, немного поблекшему за сорок лет постоянных треволнений и излишеств. Поверхностные знания, которыми он подчас любил прихвастнуть, были почерпнуты им исключительно из романов, модных философских сочинений и посещения театров. Он называл себя знатоком искусства, но и в этом, как во всем остальном, ему не хватало тонкости и глубины понимания. Однако его величественный вид, изысканная любезность и веселые остроты пленили воображение юного Гайдна, и граф нравился ему гораздо больше, чем барон, быть может, еще потому, что к последнему с явным интересом относилась Консуэло.
Барон, напротив, получил хорошее образование. И хотя блеск придворной жизни и кипучая молодость часто заставляли его забывать об истинной ценности человеческого величия, в глубине души он сохранил ту независимость чувств и твердость убеждений, которые даются серьезным чтением и развитием благородных задатков. Его гордая натура могла очерстветь под влиянием лести и угодничества, порождаемых властью, но не согнулась настолько, чтобы при малейшей несправедливости не проявить себя вновь запальчивостью и гневом. Красавец паж Фридриха омочил губы в кубке с ядом, но любовь – любовь безграничная, смелая, восторженная – вновь воскресила в нем отвагу и твердость. Пораженный в самое сердце, он поднял голову и бросил вызов тирану, желавшему поставить его на колени.
В то время, о котором мы повествуем, ему было на вид не больше двадцати лет. Густые темные волосы, которыми он не хотел жертвовать ради нелепых установлений Фридриха, осеняли его высокий лоб. Великолепно сложенный, с искрящимися глазами, черными как смоль усиками и белыми, как алебастр, но сильными, как у атлета, руками, он обладал голосом не менее свежим и мужественным, чем его лицо, мысли и любовные упования. Консуэло все думала об этой таинственной любви, о которой он не переставал говорить, но это чувство уже не казалось ей смешным с той минуты, как она подметила в порывах и недомолвках барона смесь прирожденной пылкости и, увы, вполне обоснованной недоверчивости, что заставляло его непрестанно бороться с самим собой и со своей участью. Консуэло, помимо воли, с любопытством спрашивала себя, кто же владычица дум юного красавца, и ловила себя на том, что самым искренним образом желает успеха двум романтическим влюбленным. День показался ей не столь длинным, как она ожидала, боясь тягостного пребывания с глазу на глаз с двумя незнакомцами из чуждого ей круга. В Венеции она узнала, а в замке Исполинов усвоила вежливое обращение, скромные манеры и изысканную речь, бывшие приятной особенностью того общества, которое в те времена принято было называть избранным. Не забывая об осторожности и не вступая в разговор, пока к ней не обратятся, она спокойно обдумывала на свободе все, о чем ей приходилось слышать. Ни барон, ни граф, по-видимому, не заметили, что она переодета. Первый не обращал никакого внимания ни на нее, ни на Йозефа: если он и бросал им несколько слов, то делал это между прочим, продолжая начатый разговор с графом; но вскоре, увлекшись, он забывал даже и о нем, беседуя, казалось, с собственными мыслями, как человек, чей ум питается внутренним огнем. Что же касается графа, он был то важен, как монарх, то резв, как французская маркиза. Он вынимал из кармана таблички из слоновой кости и что-то наносил на них с сосредоточенным видом мыслителя или дипломата; затем, напевая, перечитывал написанное, и Консуэло видела, что это французские слащаво-любовные стишки. Порой он декламировал их барону, который, не слушая, находил их чудесными. Иногда граф покровительственным тоном обращался к Консуэло, спрашивая ее с деланной скромностью:
– Как вы находите эти стихи, мой юный друг? Ведь вы понимаете по-французски, не правда ли?
Консуэло надоела притворная снисходительность Годица, по-видимому, желавшего ее поразить; она не удержалась и указала ему на две-три ошибки в его четверостишии «К красоте». Мать научила ее правильной фразировке и произношению на тех иностранных языках, на которых сама пела с легкостью и даже с некоторым изяществом. Консуэло, трудолюбивая и музыкальная, а потому во всем искавшая гармонию, меру и ясность, впоследствии успела глубже изучить по книгам правила и основы различных языков. С особым старанием изучила она просодию, упражняясь в переводе лирических стихов и приноравливая иностранные слова к народным мелодиям, чтобы лучше понять ритм и ударения. Таким путем она хорошо усвоила особенности стихосложения некоторых языков, а потому ей не стоило большого труда указать моравскому поэту на его погрешности.
Восхищенный познаниями Консуэло, но будучи не в силах усомниться в своих собственных, Годиц обратился к барону, и тот оказался настолько сведущим в данном вопросе, что согласился с мнением маленького музыканта. С этой минуты граф занялся исключительно Консуэло, не подозревая, по-видимому, ни ее настоящего возраста, ни пола. Он только спросил, где он получил образование, что так хорошо усвоил законы Парнаса.
– В бесплатной певческой школе в Венеции, – кратко ответила Консуэло.
– Видно, в этой стране преподают лучше, чем в Германии. А где учился ваш товарищ?
– В школе при венском соборе, – ответил Йозеф.
– Дети мои, – продолжал граф, – вы оба кажетесь мне и умными и способными. На первой же остановке я проэкзаменую вас по музыке, и, если оправдается то, что обещают ваши лица и ваши манеры, я приглашу вас в свой оркестр или в театр в Росвальде. Я в самом деле хочу рекомендовать вас маркграфине. Что вы на это скажете? А? Это было бы большой удачей для таких мальчуганов, как вы.
Консуэло едва удержалась от смеха, услышав, что граф собирается экзаменовать по музыке ее и Гайдна. Она лишь почтительно наклонялась, делая неимоверные усилия, чтобы оставаться серьезной. Йозеф же, чувствуя, как велики для него выгоды нового покровительства, поблагодарил и не отказался. Граф снова взялся за свои таблички и прочел Консуэло половину маленького, удивительно скверного и полного грубых ошибок либретто итальянской оперы, к которому он сам собирался написать музыку; оперу эту он хотел поставить в день именин жены на собственном театре, с собственными актерами, в собственном замке, вернее – в собственной резиденции, ибо благодаря браку с маркграфиней он считал себя принцем и иначе не выражался.
Консуэло время от времени подталкивала Йозефа локтем, желая обратить его внимание на промахи графа, и, изнемогая от скуки, говорила себе, что если знаменитая красавица, владелица наследственного маркграфства Байрейтского и княжества Кульмбахского, дала увлечь себя подобными мадригалами, то, невзирая на свои титулы, любовные похождения и годы, она, должно быть, особа крайне легкомысленная.
Читая и декламируя, граф ел конфеты, чтобы смягчить горло, и то и дело угощал ими своих юных спутников, а те, не имея со вчерашнего дня во рту ни крошки и умирая от голода, поглощали, за неимением лучшего, и эту пищу, способную скорее обмануть голод, чем удовлетворить его, и говорили про себя, что и леденцы и стихи графа весьма безвкусны.
Наконец, уже под вечер, на горизонте показались укрепления и шпили того самого Пассау, куда, как Консуэло думала еще утром, ей никогда не добраться. После пережитых опасностей и ужасов она почти так же обрадовалась этому городу, как в другое время обрадовалась бы Венеции. Когда они переправлялись через Дунай, она не удержалась и радостно пожала руку Йозефу.
– Он ваш брат? – спросил граф; до сих пор ему не приходило в голову задать подобный вопрос.
– Да, ваше сиятельство, – не задумываясь, ответила Консуэло, чтобы как-нибудь отделаться от расспросов любознательного графа.
– Однако вы совсем не похожи друг на друга, – заметил он.
– А сколько детей не похожи на своих отцов! – весело возразил Йозеф.
– Значит, вы не вместе воспитывались?
– Нет, ваше сиятельство. При нашем кочевом образе жизни воспитываешься где и как придется.

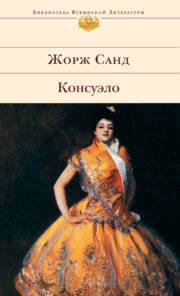
"Консуэло" отзывы
Отзывы читателей о книге "Консуэло". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Консуэло" друзьям в соцсетях.