Шпалеры из роз отделяли огород от цветника, примыкавшего к зданиям и окружавшего их поясом из цветов. Этот заповедный сад казался каким-то раем. Под сенью роскошных декоративных кустов ютились редкостные растения, источавшие чудесный аромат. Песок под ногами был мягок, как ковер. Газон казался расчесанным травинка к травинке, настолько он был ровен и гладок. Цветы росли так буйно, что совсем не видно было земли, и каждая клумба походила на громадную корзину цветов.
Удивительно влияние предметов на душевное и физическое состояние человека! Не успела Консуэло вдохнуть этот сладостный воздух, взглянуть на это святилище беспечного благоденствия, как почувствовала себя отдохнувшей, словно после крепкого сна.
– Как странно! – сказала она Беппо. – Я смотрю на этот сад и уже забыла о камнях дороги и о своих больных ногах. Мне кажется, что, видя эту красоту, я отдыхаю. Никогда прежде я не любила аккуратные, ухоженные сады и вообще все места, окруженные оградами, а вот этот сад, после стольких дней пути по пыльной дороге, после долгой ходьбы по твердой, утоптанной земле, представляется мне раем. Только что я умирала от жажды, а сейчас, когда я вижу эти прелестные растения, раскрывающиеся при вечерней росе, мне кажется, что я пью вместе с ними и уже утолила свою жажду. Посмотри, Йозеф, есть ли что-нибудь очаровательнее цветов, распускающихся при лунном свете? Взгляни на тот букет белых звезд как раз посреди лужайки и не смейся надо мной. Я не знаю их названия, кажется, Ночные Красавицы, но как удачно они названы! Они красивы и чисты, как звезды на небе. Малейшее дуновение ветерка – и они все вместе то склоняются, то выпрямляются; чудится, будто они смеются и резвятся, словно девочки, одетые во все белое. Они напоминают мне моих подруг из певческой школы, когда по воскресеньям, одетые послушницами, они бегали вдоль высоких церковных стен. А теперь цветы замерли в неподвижном воздухе, обратив головки к луне, точно смотрят на нее и любуются ею. И кажется, что и луна тоже ласково глядит на них и парит над ними, словно большая ночная птица. Ты думаешь, Беппо, что растения ничего не чувствуют? А мне кажется, что красивый цветок не только бессмысленно растет, но и испытывает чудесные ощущения. Я не говорю о несчастном, жалком чертополохе вдоль придорожных канав, где он чахнет в пыли и каждое проходящее стадо обгладывает его побеги. Это убогий нищий, вздыхающий о капле недоступной ему воды. Растрескавшаяся и жаждущая земля алчно вбирает в себя всю влагу, ничего не уделяя его корням. Но садовые цветы, за которыми так заботливо ухаживают, счастливы и горды, как королевы. Они проводят время, кокетливо раскачиваясь на стеблях, а когда восходит на небе их милая подруга луна, они раскрываются ей навстречу и стоят так в полудремоте, предаваясь сладким грезам. Быть может, они спрашивают себя, есть ли на луне цветы, подобно тому как мы спрашиваем себя, живут ли там люди. Я вижу, Йозеф, что ты смеешься надо мной, а между тем наслаждение, которое я испытываю, любуясь этими белыми звездами, вовсе не обман чувств. В воздухе, очищенном и освеженном их ароматом, есть что-то возвышающее, и я ощущаю, что моя жизнь словно связана с жизнью всего, что меня окружает.
– Как мог бы я насмехаться над вами, – ответил, вздыхая, Йозеф, – когда все ваши впечатления сейчас же передаются мне, когда каждое ваше слово трепещет в моей душе, как звук на струнах инструмента. Но посмотрите, Консуэло, на это жилище и объясните мне, почему оно навевает на меня такую сладостную и глубокую грусть.
Консуэло взглянула на аббатство. То было небольшое здание XII века, некогда укрепленное зубчатыми парапетами, которые впоследствии были заменены остроконечными крышами из сероватых шиферных плит. Башенки, увенчанные галереями с навесными бойницами, были оставлены в виде украшения и походили на большие корзины. Красивые заросли плюща нарушали однообразие стен, а на обнаженных частях фасада, залитого лунным светом, ночной ветер колебал легкую расплывчатую тень молодых тополей. Длинные гирлянды виноградных лоз и жасмина обрамляли двери и вились вокруг окон.
– От жилища этого веет тишиной и грустью, – ответила Консуэло, – но оно не внушает мне такой симпатии, как сад. Растения созданы, чтобы расти на одном месте, люди же – чтобы двигаться и общаться друг с другом. Будь я цветком, я хотела бы расти в этом цветнике – здесь хорошо, но я женщина и не желала бы жить в келье, запертая в каменной громаде. А ты хотел бы быть монахом, Беппо?
– Ну нет! Боже меня упаси! Но мне было бы приятно работать, не думая о крыше над головой и о хлебе насущном; мне хотелось бы вести жизнь покойную, уединенную, с некоторым достатком, без забот, присущих нищете. Словом, я желал бы прозябать в пассивной размеренной жизни, даже в некоторой зависимости от кого-либо, лишь бы разум мой был свободен, лишь бы у меня не было иных тревог, иных хлопот, иного долга, как только заниматься музыкой.
– Ну что ж, друг мой, творя спокойно, ты и творил бы спокойную музыку.
– А чем она плоха? Что может быть лучше спокойствия? Небеса спокойны, луна спокойна, эти цветы, чей мирный вид так прельщает вас…
– Их неподвижность нравится мне лишь потому, что она сменила волнение, вызванное порывом ветра. Ясность неба нас поражает единственно потому, что мы не раз видели, как его бороздили молнии. А луна никогда не бывает так величественна, как тогда, когда сияет среди теснящихся вокруг нее темных туч. Разве отдых может быть по-настоящему сладок без усталости? Постоянная неподвижность – это уже не отдых. Это небытие, это смерть. Ах! Если бы ты прожил, как я, целые месяцы в замке Исполинов, ты знал бы, что спокойствие – это не жизнь!
– Но что вы называете спокойной музыкой?
– Музыку слишком правильную, слишком холодную. Смотри, как бы не насочинять подобной музыки, избегая утомления и мирских тревог!
Беседуя таким образом, они подошли к самому зданию. Кристальная струя воды вырывалась из мраморного шара с позолоченным крестом наверху и, переливаясь из чаши в чашу, падала в большую гранитную раковину, где плескалось множество крошечных золотых рыбок, которыми так любят забавляться дети. Консуэло и Беппо, в сущности тоже еще дитя, принялись самым серьезным образом бросать им песчинки, чтобы раздразнить их прожорливость и полюбоваться быстрыми движениями рыбок, как вдруг увидели идущую прямо на них высокую белую фигуру с кувшином. Она приближалась к бассейну и вполне могла сойти за «ночную прачку» – одно из тех сказочных существ, легенды о которых распространены почти во всех склонных к суеверию странах. Старательность и равнодушие, с какими она принялась наполнять водой кувшин, не выказывая при виде незнакомцев ни удивления, ни страха, таили в себе в самом деле нечто торжественное и странное. Но вскоре громкий крик, с которым она уронила свой сосуд на дно бассейна, доказал, что в ней не было ничего сверхъестественного. Просто у доброй старушки с годами ослабело зрение, но едва она заметила чужих, как страшно перепугалась и бросилась бежать к дому, призывая на помощь пресвятую деву Марию и всех святых.
– Что случилось, тетушка Бригитта? – раздался изнутри мужской голос. – Уж не встретились ли вы с нечистой силой?
– Два дьявола, или, скорее, два вора, стоят там у бассейна, – ответила тетушка Бригитта, подбегая к человеку, который появился в дверях и на несколько мгновений с нерешительным и недоверчивым видом остановился на пороге.
– Вам опять почудилось что-то страшное? Разве в такой час заберутся к нам воры?
– Клянусь своим вечным спасением, что там стоят две черные фигуры, неподвижные как статуи! Да разве вы сами не видите их отсюда? Смотрите, они все еще там и не двигаются. Пресвятая дева! Побегу, спрячусь в погреб.
– В самом деле, я что-то вижу, – проговорил мужчина, стараясь говорить грубым голосом. – Сейчас позвоню садовнику, и с его двумя помощниками мы легко одолеем этих негодяев. Они могли пробраться сюда только через стену, так как я сам запер все ворота.
– Сначала закроем дверь, – заметила старуха, – а потом уж подымем тревогу.
Дверь захлопнулась, а наши двое юнцов продолжали стоять в недоумении, не зная, что делать. Бежать – значило подтвердить составившееся о них мнение, а оставаться – значило подвергнуться грубому нападению. Тем временем они увидели слабый луч, пробивавшийся сквозь ставню второго этажа. Луч расширился, и малиновая шелковая занавеска, из-за которой лился мягкий свет лампы, стала медленно приподниматься. Рука, казавшаяся при ярком лунном сиянии белой и полной, появилась у края занавески, осторожно поддерживая ее бахрому, в то время как чей-то незримый глаз, должно быть, рассматривал то, что происходило снаружи.
– Давай петь, – сказала своему товарищу Консуэло. – Вот единственный выход. Я начну, а ты мне вторь. Или нет, возьми скрипку и сыграй любую ритурнель в любом тоне.
Йозеф повиновался, и Консуэло громко запела, импровизируя музыку и слова, нечто вроде ритмического речитатива на немецком языке:
– Мы двое бедных пятнадцатилетних детей; мы так малы – не сильнее и не страшнее соловушек, чьим сладким песням мы подражаем.
– Ну, Йозеф, – прошептала она, – еще аккорд, чтобы оттенить речитатив.
Затем она продолжала:
– Измученные усталостью, опечаленные мрачным одиночеством ночи, мы увидели издали этот дом, он показался нам необитаемым, и мы перекинули через стену одну ногу, а потом другую.
– Йозеф, еще аккорд в ля минор!
– Очутились мы в заколдованном саду, среди плодов, достойных земли обетованной. Мы умирали от жажды, умирали от голода, и все-таки, если не хватит хоть единого красного яблочка на шпалерах, если сорвали мы хоть единую ягодку с виноградной лозы, пусть нас выгонят и проучат как злодеев.
– Теперь, Йозеф, модуляцию, чтобы вернуться в до мажор.
– А между тем нас в чем-то подозревают, нам грозят, но мы не хотим бежать, не хотим прятаться, ибо не совершили ничего дурного… если не считать, что мы вошли в дом Божий через стену. Но когда дело идет о том, чтобы попасть в рай, то все дороги хороши, и кратчайшие – лучше всех.
Консуэло завершила свой речитатив одним из тех красивых хоралов на средневековой латыни, известной в Венеции как latino di frate[31], которые народ распевает по вечерам перед статуями мадонны. Когда она закончила, две белые руки, постепенно появившиеся из-за занавесей, бурно зааплодировали, и голос, показавшийся ей как будто знакомым, крикнул из окна:
– Добро пожаловать, питомцы муз! Входите, входите! Здесь ожидает вас гостеприимная встреча.
Юные музыканты приблизились, а минуту спустя лакей в красной с лиловым ливрее вежливо распахнул перед ними двери.
– Я было принял вас за жуликов. Прошу прощения, приятели мои, – смеясь сказал он, – но вы сами виноваты, что не запели раньше. С таким паспортом, как голос и скрипка, можете рассчитывать на самый радушный прием у моего хозяина. Пожалуйте. Похоже на то, что он уже знает вас.
С этими словами приветливый слуга поднялся впереди них по двенадцати ступенькам пологой лестницы покрытой превосходным турецким ковром. Не успел еще Йозеф спросить имя хозяина, как лакей открыл дверь, тотчас бесшумно за ним закрывшуюся, и, проведя их через уютную переднюю, ввел в столовую, где любезный хозяин этого счастливого обиталища, сидя перед жареным фазаном и двумя бутылками старого золотистого вина, начинал переваривать первое блюдо, принимаясь с благодушным и одновременно величественным видом за второе. Вернувшись с вечерней прогулки, он приказал привести себя в порядок и освежить себе лицо, что и было исполнено его камердинером. Он был напудрен и выбрит, седеющие кудри, слегка осыпанные ирисовой, чудесно пахнущей пудрой, мягко вились вокруг его почтенной головы. Красивые руки покоились на коленях, обтянутых короткими черными шелковыми панталонами с серебряными пряжками. Красивые ноги, которыми он немного гордился, туго обтянутые прозрачными лиловыми шелковыми чулками, покоились на бархатной подушке. Его статное, дородное тело, облаченное в роскошный, стеганный на вате халат из темно-красного шелка, утопало в большом мягком кресле, где локоть нигде не рисковал наткнуться на угол, до того кресло это было хорошо набито и округло. Тетушка Бригитта, домоправительница, сидя у пылающего и потрескивающего камина позади кресла хозяина, словно священнодействуя, варила кофе. Второй лакей, такой же опрятный и приветливый, как первый, стоя у стола, осторожно отрезал крылышко дичи, спокойно и терпеливо ожидаемое благочестивым отцом. Йозеф и Консуэло низко поклонились, узнав в любезном хозяине старшего каноника собора святого Стефана, того самого, в чьем присутствии они утром пели мессу.
Глава LXXVII
Не было на свете человека, жизнь которого сложилась бы так спокойно и удобно, как жизнь господина каноника. Благодаря многочисленным покровителям из королевского дома он уже в возрасте семи лет был объявлен совершеннолетним, согласно канонам церкви, каковые допускают, что человек в эти годы хотя еще не отличается здравым умом, однако в скрытой форме обладает им в достаточной степени, чтобы получать и тратить доходы от бенефиция. Вследствие этого нашего юнца постригли и возвели в сан каноника, несмотря на то что он был побочным сыном короля. Сделано это было в соответствии с церковным уставом, признающим по презумпции законнорожденным ребенка, если он представлен к получению бенефиция и опекаем коронованными особами, хотя тот же самый устав требовал, чтобы каждый претендент на церковное имущество происходил от бесспорного и законного брака, иначе его могли объявить неправоспособным, то есть недостойным и даже, если понадобится, лишенным чести. Но существует столько средств для соглашения с небом! А потому в некоторых случаях каноническое право устанавливало, что подкинутый ребенок может считаться законнорожденным на том, впрочем, истинно христианском основании, что в случае неизвестного происхождения следует скорее предполагать хорошее, чем плохое. Итак, маленький каноник в качестве старшего каноника стал получать прекрасный доход с церковного имущества, а достигнув пятидесяти лет от роду и имея за собой сорок лет якобы действительной службы в капитуле, был признан каноником юбилейным, то есть каноником на пенсии, имеющим право жить, где ему заблагорассудится, не исполнять никаких обязанностей при капитуле и пользоваться в то же время всеми выгодами, доходами и привилегиями канониката. Правда, достойный каноник с юных лет оказывал капитулу очень большие услуги. Он объявил себя отсутствующим, что на языке канонического права означает разрешение под более или менее благовидным предлогом жить вдали от капитула, не теряя при этом доходов от бенефиция, связанных с действительным исполнением должности. Достаточно было одного случая чумы в его резиденции, чтобы это послужило основанием для отсутствия. Могло быть причиной отсутствия слабое или расстроенное здоровье. Но самым надежным и уважительным поводом являлись научные занятия. Для этого объявлялось, что предпринимается какой-либо объемистый труд на тему о морали, об отцах церкви, о таинствах или, еще лучше, об устройстве своего капитула, о принципах его организации, о связанных с ним материальных выгодах, о претензиях, которые могли бы быть предъявлены другим капитулам, о тяжбе, которая ведется или которую можно завести с соперничающей общиной по поводу земельного участка, права попечительства или принадлежащего по бенефицию дома. И такого рода сутяжнические и финансовые хитросплетения были настолько интереснее духовному сословию, чем комментарии к основным положениям религии и разъяснение догматов, что стоило только какому-нибудь видному члену капитула пообещать, что он займется подобными поисками, начать рыться в старых пергаментах и строчить судебные записки, жалобы и даже пасквили на богатых противников, как ему предоставляли выгодное и приятное право вернуться к частной жизни и проедать свои доходы либо путешествуя, либо сидя дома в своем бенефиции, у собственного камелька. Именно так и поступил наш каноник.

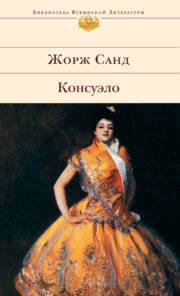
"Консуэло" отзывы
Отзывы читателей о книге "Консуэло". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Консуэло" друзьям в соцсетях.