– Но раз ваше преподобие сегодня утром написали…
– Написал? Где же мое письмо? Пожалуйста, пусть мне его покажут!
– Ну, я, конечно, не видала вашего письма, и притом у нас никто и читать-то не умеет. Но господин Андреас приходил к роженице с поклоном от вашего преподобия, и она нам сказала, будто он передал ей письмо. А мы, простаки, и поверили. Да кто бы мог не поверить?!
– Это гнусная ложь! Только беспутница может пойти на такие проделки! – закричал каноник. – И вы сообщники этой ведьмы. Нет! Нет! Забирайте младенца, возвращайте его матери, оставляйте у себя, устраивайтесь как знаете, а я умываю руки. Если вы хотите вытянуть у меня деньги, я готов их дать. Никому не отказываю я в милостыне, даже интриганам и плутам – это единственный способ избавиться от них. Но взять в свой дом ребенка – благодарю покорно! Убирайтесь вы все к черту!
– Ну, что до этого, – возразила старуха очень решительно, – так и я его не возьму, не прогневайтесь, ваше преподобие. Я не соглашалась смотреть за ребенком. Знаю я, как кончаются такие истории. Для начала дадут немножко блестящих золотых монет и наобещают с три короба, а там – поминай как звали, и ребенок остается на вашей шее. И никогда из таких детей ничего путного не выходит: они лентяи и гордецы уже по самой своей природе. Не знаешь, что с ними и делать. Если это мальчики, они становятся грабителями, а девочки кончают еще хуже. Ой, нет, нет! Ни я, ни мой старик не хотим брать этого ребенка. Нам сказали, что ваше преподобие просили его отдать вашему преподобию, – мы поверили, и вот вам ребенок. Извольте получить деньги, и мы в расчете. А что мы сообщники этой дамы, так уж простите, ваше преподобие, мы таких штук не знаем. Вы, верно, шутите, коли упрекаете нас в том, что мы хотим вас обмануть. Покорная слуга вашего преподобия! Ухожу домой. У нас сейчас паломники, что ходили по обету, и они, ей-Богу, умирают от жажды.
Старуха несколько раз поклонилась и уже направилась было к выходу, но потом вернулась и сказала:
– Совсем было забыла: ребенок должен называться вроде бы Анджелой, но только по-итальянски. Ох, честное слово, не помню теперь, как это они мне сказали.
– Анджолина, Андзолета? – спросила Консуэло.
– Вот-вот, именно так, – подтвердила старуха и, еще раз поклонившись канонику, спокойно удалилась.
– Ну, как вам нравится эта выходка? – проговорил изумленный каноник, обращаясь к своим гостям.
– Я нахожу, что она достойна той, которая ее придумала, – ответила Консуэло, вынимая из корзины ребенка, начинавшего уже вертеться, и осторожно заставляя его проглотить несколько ложечек теплого молока, оставшегося после завтрака в японской чашке каноника.
– Что же, эта Корилла какой-то дьявол? – спросил каноник. – Вы раньше знавали ее?
– Только по слухам, но теперь я знаком с нею прекрасно, так же как и вы, господин каноник.
– Знакомство, без которого я охотно обошелся бы. Но что нам делать с этим несчастным, брошенным ребенком? – прибавил он, с состраданием глядя на крошку.
– Отнесу-ка я его к вашей садовнице, – сказала Консуэло. – Вчера я видел, как она кормила грудью чудесного мальчугана месяцев пяти-шести.
– Ну, ступайте, – сказал каноник, – или лучше позвоните, чтобы она пришла за ним сюда. Она нам укажет и кормилицу с какой-нибудь соседней фермы… только не в слишком близком соседстве от нас. Ведь один Бог знает, какое зло может принести духовному лицу внимание к ребенку, подобным образом свалившемуся с облаков в его дом.
– На вашем месте, господин каноник, я был бы выше таких пустяков. Не стал бы я ни думать о возможных нелепых клеветнических намеках, ни прислушиваться к ним. Я жил бы среди глупых сплетен так, будто их и не существует, и поступал бы так, будто они вообще невозможны. В чем же тогда смысл мудрой, достойной жизни, если она не обеспечивает спокойствия совести и свободы делать добрые дела? Подумайте, господин каноник, вам доверили ребенка. Если вдали от ваших глаз за ним будут плохо смотреть, если он захиреет, умрет, вы этого себе никогда не простите!
– Что ты там говоришь, будто мне доверили ребенка! Да разве я давал на это согласие? Разве каприз или плутовство других могут налагать на нас подобные обязательства? Ты увлекаешься, дитя мое, и говоришь вздор.
– Нет, дорогой господин каноник, – возразила Консуэло, все более и более оживляясь, – это не вздор. Злая мать, бросившая своего ребенка, не имеет на него никаких прав и не может ничего вам предписывать. Приказывать вам имеет право только тот, кто располагает судьбой рождающегося ребенка, тот, перед кем вы вечно будете ответственны, а это Бог. Да, Бог возымел особое милосердие к невинному крошечному созданию, внушив его матери смелую мысль – доверить его вам. Это Бог, по странному стечению обстоятельств, привел его в ваш дом, наперекор вашему желанию, и толкает его в ваши объятия вопреки вашей осторожности. Ах, господин каноник! Вспомните святого Винсента, подбиравшего на ступеньках домов несчастных, покинутых сирот, и не отталкивайте сиротку, которую вам посылает провидение. Мне кажется, что, поступив иначе, вы навлечете на себя несчастье. И свет, даже в злобе своей инстинктивно чувствующий справедливость, пожалуй, стал бы говорить – и это походило бы на правду, – что у вас были причины удалить ребенка. Тогда как если вы оставите его у себя, никто не сможет предположить иных причин, кроме истинных: вашего милосердия и любви к ближнему.
– Ты не знаешь, что такое свет, – сказал, смягчаясь и начиная уже колебаться, каноник. – Ты маленький дикарь по своей прямоте и добродетели. И ты совсем не знаешь, что такое духовенство, а Бригитта, злая Бригитта, прекрасно знала это, когда говорила вчера, что некоторые завидуют моему положению и хотят меня лишить его. Я обязан своими доходами покровительству покойного императора Карла, который соблаговолил предоставить их мне. Императрица Мария-Терезия своим покровительством также способствовала тому, что меня объявили пенсионером раньше времени. Но то, что мы считаем дарованным нам церковью, никогда не бывает безусловно обеспечено за нами. Над нами, над монархами, расположенными к нам, всегда стоит еще один властелин – церковь. Она по своему желанию объявляет нас правоспособными даже тогда, когда мы еще ни на что не способны, и она же, когда ей нужно, признает нас неправоспособными, даже если мы оказали ей величайшие услуги. Глава епархии, то есть облеченный судебной властью епископ со своим советом, стоит только рассердить его и восстановить против себя, может обвинить нас, привлечь к своему суду, судить и лишить всего, ссылаясь на распутство, безнравственность или на то, что мы служим примером соблазна, – и все это с целью вырвать у нас те блага, которые даны были нам раньше, и вручить их новым любимцам. Небо свидетель, что жизнь моя так же чиста, как жизнь этого младенца, вчера родившегося! Не будь я во всех отношениях чрезвычайно осторожен с людьми, одна моя добродетель не смогла бы защитить меня от злобных наветов. Я не очень-то умею льстить прелатам: моя беспечность, а быть может, до некоторой степени и фамильная гордость всегда тому препятствовали. Есть у меня и завистники в капитуле…
– Но ведь за вас великодушная Мария-Терезия, благородная женщина, нежная мать, – возразила Консуэло. – Будь она вашим судьей, вы пришли бы и сказали ей с правдивостью, присущей только правде: «Королева, я колебался одно мгновение между боязнью дать оружие в руки врагов и потребностью проявить наибольшую добродетель моего звания – любовь к ближнему; с одной стороны, я видел клевету, интриги, могущие погубить меня, с другой – несчастное, покинутое небом и людьми крошечное создание, которое могло найти убежище только в моем сострадательном сердце и чье будущее зависело лишь от моей заботливости. Я предпочел рискнуть своей репутацией, своим покоем и своим состоянием ради дела веры и милосердия». О! Я не сомневаюсь, что, скажи вы все это Марии-Терезии, всесильная королева дала бы вам вместо этой усадьбы дворец и сделала бы вас вместо каноника епископом. Разве не осыпала она почестями и богатством аббата Метастазио за его стихи? Чего не сделала бы она ради добродетели, если так вознаграждает талант! Нет, господин каноник, оставьте у себя в доме эту бедняжку Анджелину. Садовница ваша выкормит ее, а позже вы воспитаете ее в духе веры и добродетели. Мать вырастила бы из нее дьявола для ада, а вы создадите ангела для рая!
– Ты делаешь со мной все, что хочешь, – проговорил взволнованный и растроганный каноник, покорно принимая ребенка, которого его любимец положил ему на колени. – Ну хорошо, мы завтра же утром окрестим Анджелу, ты будешь ее крестным. Не уйди отсюда Бригитта, мы заставили бы ее быть твоей кумой и потешились бы над ее злобой. Позвони, пусть приведут кормилицу, и да свершится все по воле Божьей. Что же касается кошелька, оставленного Кориллой (ого! пятьдесят венецианских цехинов), нам он ни к чему. Я беру на себя все теперешние расходы и все заботы о будущем ребенка, если его не потребуют обратно. Возьми эти золотые: ты вполне их заслужил за свою удивительную доброту и великодушие.
– Золото в уплату за великодушие и доброе сердце! – воскликнула Консуэло, с отвращением отталкивая кошелек. – Да еще золото Кориллы, полученное ценою лжи и, быть может, распутства! Ах, господин каноник, даже вид его мне омерзителен! Раздайте его бедным – это принесет счастье нашей бедняжке Анджеле.
Глава LXXXI
Быть может, впервые в жизни каноник плохо спал в эту ночь. Он испытывал странное беспокойство и возбуждение. Голова его была полна аккордов, мелодий и модуляций, поминутно обрывавшихся, как только он погружался в легкий сон. Просыпаясь, он каждый раз стремился, помимо воли и даже с какой-то досадой, снова поймать эти звуки, снова связать их, но это ему не удавалось. Он запомнил наиболее яркие фразы, пропетые Консуэло, они звучали в его голове, отдавались в диафрагме, и вдруг на самом красивом месте музыкальная нить обрывалась – сто раз подряд он мысленно начинал ее снова, но не мог припомнить дальше ни одной ноты. Утомленный этим воображаемым пением, он тщетно силился избавиться от него, но оно все звучало у него в ушах, и ему чудилось, будто в такт с ним колеблется отблеск от пламени камина на пурпурном атласе полога. Легкий треск горящих поленьев тоже как будто порывался повторять эти проклятые фразы, но конец их продолжал оставаться непроницаемой тайной для утомленного мозга каноника. Ему все казалось, что, вспомни он хоть один отрывок целиком, он избавится от этих навязчивых воспоминаний. Но такова уж музыкальная память: она мучает и донимает нас, пока мы не насытим ее тем, чего она жаждет.
Никогда еще музыка не производила на каноника такого сильного впечатления, хотя всю свою жизнь он был страстным ее любителем. Никогда ни один человеческий голос не волновал его так глубоко, как голос Консуэло. Никогда облик, речь и манеры человека не пленяли его душу так, как в течение последних тридцати шести часов пленяли черты, манеры и речи Консуэло. Догадывался ли каноник о том, что мнимый Бертони женщина? И да и нет. Как объяснить вам это? Надо сказать, что мысли пятидесятилетнего каноника были так же чисты, как его нравы, а нравы – целомудренны, как у юной девушки. В этом отношении наш каноник был святой человек. Таким он был всегда, и самое удивительное то, что, будучи побочным сыном развратнейшего из всех известных истории королей, он почти без труда соблюдал обет целомудрия. Флегматичный от природы – мы называем теперь такие натуры апатичными, – он был воспитан в духе, подобающем для будущего аббата, и так обожал благоденствие и спокойствие, так мало был приспособлен к тайной борьбе, на которую грубые страсти и тщеславие толкают духовных лиц, – короче говоря, так жаждал мира и счастья, что главным и единственным его правилом было ради безмятежного пользования бенефицием жертвовать всем: любовью, дружбой, честолюбием, энтузиазмом, а если понадобится, то и добродетелью. С ранних лет он приучил себя подавлять все чувства без усилий и почти без сожалений. Несмотря на столь ужасную теорию эгоизма, он оставался сердечным, гуманным, ласковым и восторженным во многих отношениях, так как от природы был добр, а подавлять свои лучшие инстинкты ему почти никогда не приходилось. Независимое положение всегда позволяло ему иметь друзей, снисходительно относиться к людям, заниматься искусством. Любовь была ему запрещена, и он убил в себе любовь, как самого опасного врага покоя и благополучия. Но так как любовь по природе своей божественна и, стало быть, бессмертна, то когда нам кажется, что мы ее убили, на самом деле мы только заживо похоронили ее в своем сердце. Она может дремать там в тиши долгие годы до того дня, когда ей заблагорассудится проснуться. Консуэло появилась в осеннюю пору жизни каноника, и его долгое душевное безразличие сменилось томностью, нежной, глубокой и более стойкой, чем можно было предполагать. Апатичное сердце каноника не умело биться и трепетать ради любимого существа, но оно могло таять, как лед на солнце, быть преданным, покорным, забыть себя, познать то терпеливое самоотречение, какое мы с удивлением встречаем порой у эгоиста, когда любовь берет его крепость приступом.

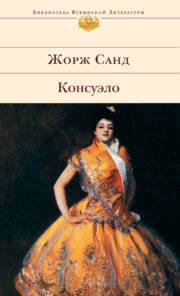
"Консуэло" отзывы
Отзывы читателей о книге "Консуэло". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Консуэло" друзьям в соцсетях.