На обратной дороге в замок я сказала:
— Он принимал меня за кого-то другого. И пару раз назвал Онориной.
— Так звали мамину маму.
— Он боялся ее?
Женевьева задумалась.
— Вряд ли, дедушка кого-нибудь боялся.
Я тогда подумала, что вся жизнь в замке каким-то таинственным образом связана с покойниками.
Я не могла не поговорить с Нуну о нашем визите в Карефур.
Она покачала головой.
— Женевьеве не стоит туда ездить, — сказала она. — Лучше этого не делать.
— Она хотела соблюсти новогодний обычай.
— Обычаи хороши для одних семей и не годятся для других.
— Их не очень-то придерживаются в этой семье.
— Обычаи созданы для бедных. Они придают их жизни хоть какой-то смысл.
— Полагаю, обычаи радуют и бедных и богатых. Но я жалею о нашем визите. Старик бредил. Это было неприятное зрелище.
— Мадемуазель Женевьеве следует ждать, когда он за ней пришлет. Неожиданные визиты ни к чему хорошему не приводят.
— Он, конечно, был другим, когда вы там жили… Я хочу сказать, когда Франсуаза была ребенком.
— Он всегда был строгим. К себе и к другим. Ему надо было стать монахом.
— Возможно, он и сам так думал. Я видела его келью. По-моему, раньше он жил в ней.
Нуну опять кивнула.
— Такому человеку не следовало жениться, — сказала она. — Франсуаза не понимала, что происходит вокруг. Я старалась сделать так, чтобы все это ей казалось естественным.
— А что происходило? — спросила я.
Она бросила на меня пристальный взгляд.
— Он не был создан для отцовства. Хотел, чтобы дом был похож… на монастырь.
— А ее мать… Онорина?
Нуну отвернулась.
— Она была инвалидом.
— Да, — сказала я, — не очень счастливое детство было у бедной Франсуазы… Отец — фанатик, мать — инвалид.
— Нет, она была счастлива.
— Кажется, вышивание и уроки музыки действительно скрашивали ее жизнь. Она пишет о них с радостью. Когда ее мать умерла…
— Что? — перебила Нуну.
— Она очень переживала?
Нуну встала и вытащила из выдвижного ящика следующую тетрадку.
— Прочитайте, — сказала она.
Я открыла первую страницу. Франсуаза была на прогулке. У нее был урок музыки. Она закончила вышивать напрестольную пелену. Она занималась с гувернанткой. Обычная жизнь обычной маленькой девочки.
Но дальше шли следующие записи:
«Сегодня утром на уроке истории папа зашел в классную комнату. Он выглядел очень грустным и сказал: «Франсуаза, я должен тебе кое-что сообщить. У тебя больше нет матери». Я чувствовала, что мне надо было бы заплакать, но не могла. А папа смотрел так сурово и печально. «Твоя мама долго болела и никогда бы уже не выздоровела. Господь услышал наши молитвы». Я сказала, что не молилась о том, чтобы она умерла, но папа возразил, что пути Господни неисповедимы. Мы помолились за маму, и я почувствовала большое облегчение. Он сказал, что теперь она отмучилась, и вышел из классной комнаты».
«Папа просидел в покойницкой два дня и две ночи. Он не выходил из нее, и я тоже была там, чтобы отдать дань уважения умершей. Я долго стояла на коленях у кровати и горько плакала. Я думала, что плачу, потому что умерла мама, но на самом деле у меня болели колени и мне там не нравилось. Папа все время замаливал грехи. Мне стало страшно, потому что если он такой грешник, то что говорить о нас — всех остальных, не молившихся и вполовину его стараний».
«Мама лежит в гробу в ночной сорочке. Папа говорит, что теперь она успокоилась. Все слуги приходили исполнить последний долг. Папа остается там и все время молится о прощении грехов».
«Сегодня были похороны. Торжественное зрелище. Лошадей украсили перьями и черными попонами. Я шла рядом с папой во главе процессии, на мне было новое черное платье, которое Нуну дошивала уже ночью, а лицо закрывала черная вуаль. Когда мы вышли из церкви, я заплакала, а потом стояла рядом с похоронными дрогами, пока оратор всем рассказывал, что мама была святой».
«В доме тихо. Папа в своей келье. Я знаю, он молится. Я стояла за дверью и слышала. Он молится о прощении грехов и о том, чтобы страшный грех умер вместе с ним, чтобы страдал он один. Я думаю, что он просит Бога не быть слишком суровым к маме, когда она придет на небеса, и что, какой бы ни был этот страшный грех, это его вина, а не ее».
Я закончила чтение и подняла глаза на Нуну.
— Что это за страшный грех? Вы знаете?
— В его глазах даже смех был грехом.
— Не понимаю, зачем он женился, почему не ушел в монастырь и не прожил жизнь там.
Нуну только пожала плечами.
Вскоре после Нового года граф вместе с Филиппом уехал в Париж. Работа моя продвигалась, и я уже могла продемонстрировать несколько отреставрированных картин. Было отрадно видеть их возрожденную красоту. Я с наслаждением вспоминала, как оживали эти яркие краски, сбрасывая с себя одно напластование за другим. Для меня это было не просто возвращением первозданной красоты, но и самоутверждением.
И все же каждое утро я просыпалась с твердым намерением уехать из замка. Внутренний голос твердил мне: «Извинись и беги без оглядки». С другой стороны, у меня никогда не было такой интересной работы. Ни один дом в мире не заинтриговал вы меня больше, чем Шато-Гайар.
Январь выдался на редкость холодным, и на полях было mho-mi работы: боялись, что виноградники побьет морозом. Во время конных и пеших прогулок мы с Женевьевой часто останавливались посмотреть на работу виноградарей. Иногда заезжали к Бастидам, а как-то раз Жан-Пьер взял нас с собой в погреба. Показал винные бочки и объяснил, как виноградный сок становится вином.
Женевьева сказала, что глубокие подвалы напоминают ей подземелья замка, на что Жан-Пьер шутливо заметил, что в погребах все учтено и ничего не забыто. Показал нам небольшие оконца, через которые проникал свет и регулировалась температура. Предупредил, что в погреб запрещается спускаться с цветами или любыми другими растениями, аромат которых может придать вину дурной вкус.
— Сколько лет этим подвалам? — поинтересовалась Женевьева.
— Столько же, сколько виноградникам… Несколько веков.
— Вот так! За виноградниками ухаживали, над вином тряслись, а людей кидали в подземелье и оставляли умирать от холода и голода, — прокомментировала Женевьева.
— Да. О вине заботились больше, чем о врагах.
— Все эти годы вино делали Бастиды…
— И один из них удостоился чести стать врагом твоих знатных предков. Его кости лежат в замке.
— Как, Жан-Пьер? Где?
— В каменном мешке. Он надерзил графу де ла Таль, тот вызвал его к себе, и больше его не видели. В замок-то он вошел, а вот выйти уже не смог. Представьте. Парень является к графу. «Входи, Бастид. Что-то ты отбился от рук». Смельчак пытается объясниться, вообразив, что может говорить с хозяином на равных. А Его Светлость нажимает носком на пружину, и пол разверзается. Дерзкий Бастид падает вниз. Как и многие до него. Падает, чтобы умереть от холода и голода… скончаться от ран, полученных при падении. Эка важность? Больше он не будет досаждать Его Светлости.
— В тебе до сих пор говорит обида? — спросила я с удивлением.
— Да нет. Потом, в революцию, настала очередь Бастидов.
Говорил он, видимо, невсерьез, потому что почти сразу рассмеялся.
Погода резко переменилась, и виноградникам уже ничего не грозило, хотя, по словам Жан-Пьера, самый опасный враг — весенние заморозки: они ударяют неожиданно.
Дни текли мирно. Я ясно помню милые пустяки, радовавшие меня в то время. Мы с Женевьевой часто бывали вместе. Наша дружба крепла медленно, но верно. Я не пыталась ускорять события: мы, конечно, стали ближе, но иногда девочка казалась совсем чужой. Она не ошибалась, говоря, что в ней уживаются два разных человека. Она была то коварной, то простодушно ласковой.
Я постоянно думала о графе. Вспоминала, с какой терпимостью он дал мне возможность доказать свое мастерство, с каким благородством признал, что напрасно сомневался во мне, и как в знак примирения подарил мне миниатюру. И он хотел сделать дочь счастливой, иначе не положил бы рождественские подарки в башмаки. А еще он обрадовался, когда я выиграла изумрудную брошь. Почему? Наверное, хотел, чтобы у меня было что-нибудь ценное на черный день. Итак, воображение рисовало мне его новый портрет, хотя здравый смысл подсказывал, что плоды моей фантазии очень далеки от реальности.
Брошь на черный день… Я вздрагивала, пытаясь представить себе этот черный день. Я не могу оставаться в замке бесконечно. Несколько картин уже отреставрировано. Работа не продлится долго, какие бы иллюзии не строила я на этот счет.
Некоторые люди с легкостью верят, что вещи таковы, какими они хотят их видеть. Я никогда не была такой… до сих пор. Всегда предпочитала смотреть правде в глаза и гордилась своим здравым смыслом. Приехав сюда, я изменилась. Странно, но я даже не желала вглядеться в себя пристальнее, чтобы найти причину этих перемен.
Марди Грас[5]. Предстоящему карнавалу Женевьева радовалась не меньше Ива и Марго, которые научили ее делать бумажные цветы и маски. Я считала, что праздник пойдет ей на пользу, поэтому мы, в уморительных масках, забросав друг друга бумажными цветами, уселись в телегу Бастидов и отправились на городскую площадь. Там на шутовской виселице болтался Его Величество Карнавал. Все танцевали, и мы тоже.
Женевьева веселилась от души.
— Я много слышала о Марди Грас, — призналась она по пути в замок, — но не думала, что это так весело.
— Надеюсь, твой отец не возражал бы против твоего присутствия на празднике.
— Этого мы никогда не узнаем. — Она заговорщически мне подмигнула. — Потому что ничего ему не расскажем. Правда, мисс?
— Если он спросит, то, конечно, расскажем, — возразила я.
— Он не спросит. Ему нет до нас дела, мисс.
Была ли она уязвлена? Возможно. Но теперь небрежение со стороны отца задевало ее меньше. Что касается Нуну, то старая няня не волновалась, зная, что Женевьева со мной. Мне льстило доверие старой няни. Когда мы ходили в город, нас всегда сопровождал Жан-Пьер. Он-то и был вдохновителем всех наших увеселительных прогулок. Он их обожал, а Женевьеве, в свою очередь, нравилась его компания. Я же убеждала себя, что у Бастидов с Женевьевой не может случиться ничего плохого.
В первую неделю великого поста граф с Филиппом вернулись в замок, и округу облетела новость: Филипп помолвлен и собирается жениться на мадемуазель де ла Монель.
Граф застал меня в галерее. Стояло прекрасное солнечное утро, и поскольку день стал прибывать, я проводила в галерее больше времени, чем раньше. При ярком дневном свете отреставрированные картины выглядели эффектнее, и граф с явным удовольствием оглядел их.
— Отлично, мадемуазель Лосон, — сказал он. Пытаться прочитать что-либо в его темных глазах было, как всегда, бесполезно. — А что вы делаете сейчас?
Я пояснила, что картина, над которой я работаю, так сильно пострадала, что от нее отслоилась краска. Испорченные места надо замазать гипсом и подкрасить.
— Вы — настоящий художник, мадемуазель Лосон.
— Как вы однажды заметили — несостоявшийся.
— А вы злопамятны! Но, надеюсь, простили меня?
— Прощать мне вас не за что. Вы сказали правду.
— Какая вы строгая! Вот такая женщина нужна не только картинам, но и всем нам.
Он шагнул ко мне. Заглянул в глаза. Неужели на его лице мелькнуло восхищение? Но я-то знала, как выгляжу. Коричневый халат, который мне никогда не шел, волосы, имевшие привычку выбиваться из пучка, чего я никогда вовремя не замечала, руки испачканы рабочими материалами. Разумеется, его интересовала не моя внешность.
Видимо, волокиты ведут себя так со всеми женщинами. Эта мысль портила мне настроение, и я попыталась ее отогнать.
— Вам нечего опасаться, — сказала я. — Я использую растворимую краску на тот случай, если ее надо будет смыть. Знаете, такие краски, сделанные на основе синтетической смолы.
— Никогда об этом не слышал.
— Но так оно и есть. Понимаете, раньше каждый художник сам смешивал себе краски. Он и только он знал их секрет, потому что у всякого мастера был собственный рецепт приготовления материалов. Именно это делает старых художников неповторимыми. Их очень трудно копировать.
Граф понимающе кивнул.
— Ретушировка — очень кропотливый процесс, — продолжала я. — Реставратор ни в коем случае не должен навязывать оригиналу свою интерпретацию.
Он выглядел довольным. Возможно, понял, что я говорю все это, чтобы скрыть смущение.

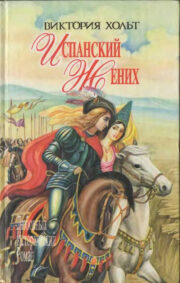
"Король замка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Король замка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Король замка" друзьям в соцсетях.