Однажды после обеда, когда весь замок погрузился в тишину и покой, я направилась в комнату Нуну. Меня беспокоила Женевьева, и я хотела узнать, как далеко зашли чувства девочки к Жан-Пьеру.
Постучав в дверь и не получив никакого ответа, я вошла в комнату.
Прикрыв глаза платком, старушка лежала на кушетке. Я поняла, что у нее опять приступ головной боли.
— Нуну, — тихонько окликнула я.
Никакого ответа.
Мой взгляд скользнул к буфету, в котором хранились заветные тетрадки, и я увидела, что в замок ящика вставлен ключ. Обычно Нуну носила его в связке на поясе. Странно, что, закрыв буфет, она тут же не повесила его обратно.
Склонившись над Нуну, я услышала ровное, глубокое дыхание. Она крепко спала. Я вернулась к буфету. Искушение было слишком велико, я должна была узнать правду. Показала же она мне другие тетради! — успокаивала я свою совесть. Отчего бы не заглянуть в последнюю? В конце концов, Франсуазы уже нет; и если ее записи могла прочесть Нуну, то почему нельзя мне? Я убеждала себя, что это исключительно важно. Я непременно должна узнать тайну последней тетради.
Неслышно приблизившись к буфету, я оглянулась на спящую женщину, а затем открыла ящик. Там оказались небольшая рюмка и флакон. Я взяла флакон в руки и понюхала. В нем была настойка опиума. Нуну принимала ее от головной боли. От такой же настойки умерла Франсуаза. Невыносимо страдая от головной боли, Нуну и сегодня приняла это лекарство. Надо решиться. Мне необходимо все узнать.
Я вытащила нижнюю тетрадку в стопке, так как знала, что они лежат строго по порядку. Раскрыла ее. Да, так и есть. Это была тетрадь, которую я стремилась получить.
Я направилась к двери.
Нуну не шевелилась. Тогда я бросилась в свою комнату и с бешенно колотящимся сердцем принялась читать.
«Все-таки я жду ребенка. Может быть, на этот раз родится мальчик. Лотер обрадуется сыну. Пока никто ничего не знает. Лотер должен услышать об этом первым. Я признаюсь ему: «Дорогой, у нас будет ребенок. Ты доволен?» Конечно, я многого боюсь. Скорее бы все оказалось позади. Что скажет папа? Ему будет неприятно… до омерзения. Ему было бы по душе, если бы я пришла к нему и сказала, что ухожу в монастырь. Прочь от людской греховности, от страстей, от мирской суеты. Вот тогда он был бы счастлив. А я приду и скажу: «Папа, я жду ребенка». Но не теперь. Выберу подходящий момент. Именно поэтому сейчас никому ничего нельзя говорить. Лапа может узнать».
«Говорят, женщина меняется, когда она ждет ребенка. Я изменилась. Я могла бы быть счастлива! Я почти счастлива. Я мечтаю о ребенке. Родится мальчик, потому что мы все хотим мальчика. Конечно, де ла Талям нужны сыновья, потому они и женятся. Если бы это было не обязательно, им бы хватало любовниц. Сыновья — вот что их по-настоящему беспокоит. Но теперь все будет по-другому. Он увидит меня в ином свете. Я буду не просто женщиной, на которой он женился, чтобы угодить семье. Я буду матерью его сына».
«Это прекрасно. Мне следовало понять это раньше. Я не должна была бы слушать папу. Вчера я ходила в Карефур, но ничего ему не сказала. Не смогла себя заставить. Он омрачит мое счастье. Посмотрит сурово и холодно, как умеет он один, и представит все то, отчего берутся дети — не так, как оно есть на самом деле, а так, как он считает, что оно есть — отвратительным, греховным. Я хотела крикнуть ему: «Нет, папа, все не так. Ты ошибаешься. Мне не надо было тебя слушать». О, эта комната, где мы вместе стояли на коленях и ты молился, чтобы меня не коснулось вожделение плоти! Именно поэтому я избегала мужа. Я до сих пор помню вечер перед свадьбой. Почему ты согласился? Ты пожалел об этом почти сразу же. После ужина в честь подписания брачного контракта мы вместе молились, и ты сказал: «Дитя мое, лучше бы этого никогда не случилось!» А я спросила: «Почему, папа? Все меня поздравляют». — «Это потому, что партия с де ла Талями считается выгодной, но я был бы счастлив думать, что ты живешь праведной жизнью». Тогда я не поняла. Сказала, что постараюсь быть праведной женщиной, а папа все нашептывал мне о плотских грехах. В вечер перед венчанием мы снова молились вместе. Я была неискушенной и не знала ничего о том, что меня ждет, кроме того, что это стыдно. С этим я и пришла к мужу…»
«Но теперь все иначе. Я поняла, что папа не прав. Ему не следовало жениться. Он хотел быть монахом, но внезапно передумал и женился на моей матери. Он ненавидел себя за слабость, самым дорогим его сокровищем было монашеское платье. Он ошибался. Теперь я это знаю. Я могла бы быть счастливой. Я могла бы научиться любить и быть любимой, если бы папа не запугал меня, если бы не внушил, что супружеское ложе — это нечто постыдное. Я стараюсь не винить его. Но если бы не он, не было бы всех этих лет, когда мой муж отвернулся от меня, когда спал с другими женщинами. Я начинаю понимать, что оттолкнула его ложной стыдливостью. Завтра я пойду в Карефур и скажу папе, что жду ребенка. Я скажу: «Папа, я не чувствую стыда… только гордость. Отныне все пойдет по-другому».
«Я не пошла в Карефур, как себе обещала. У меня снова разболелся зуб мудрости. Нуну сказала: «Иногда у беременных женщин выпадают зубы. Ты не беременна?» Я покраснела, и она догадалась. Как я могу что-нибудь утаить от Нуну? Я сказала: «Пока никому не говори, Нуну. Я ему еще не сказала. Он должен узнать первым, верно? И папе я тоже хочу сказать сама». Нуну поняла. Она так хорошо меня знает. Ей известно, что папа заставляет меня молиться, когда я хожу в Карефур, и что папа мечтает увидеть меня в монастыре. Она знает, что он думает о семейной жизни. Нуну потерла мне десну зубчиком чеснока и сказала, что это помогает. Я села на скамеечку для ног и прижалась к няне, совсем как в детстве. Я заговорила с ней. Сказала о том, что чувствую: «Папа ошибался, Нуну. Он заставил меня считать брак чем-то постыдным. Именно из-за этого… Из-за того, что я сделала свою семейную жизнь невыносимой, муж ушел к другим женщинам». «Ты не виновата, — возразила Нуну. — Ты жила по заповедям». «Из-за папы я чувствовала себя несчастной, — сказала я. — Так было с самого начала. Поэтому муж отвернулся от меня. Я не могла ему объяснить. Он считал меня холодной, а ты же знаешь, что он темпераментный мужчина. Он нуждался в сердечной, умной женщине. С ним поступили несправедливо». Нуну не захотела этого признать. Она сказала, что я не делала ничего дурного. Я обвинила ее в том, что она заодно с папой: «Наверное, ты тоже предпочла бы видеть меня скорее в монастыре, чем замужем…» И она не отрицала. Я сказала: «Ты тоже считаешь брак чем-то постыдным», и этого она тоже не отрицала. Моему зубу не стало легче. Тогда она накапала мне в стакан с водой настойки опиума и уложила на кушетку у себя в комнате. Потом заперла флакон в буфет и села рядом со мной. «Вздремни, — сказала она. — От опиума снятся чудесные сны». И я заснула».
«Ужасно, я не забуду этого до конца жизни. Мысли о происшедшем постоянно вертятся у меня в голове. Может быть, дневник принесет облегчение, и я перестану переживать это снова и снова. Папа очень болен. Все началось с того, что вчера я пошла его навестить. Я решила сказать ему о ребенке. Когда я пришла, папа был у себя в комнате, и меня отвели прямо к нему. Он сидел за столом и читал Библию. Когда я вошла, он оторвал взгляд от страницы, отметил нужное место красной шелковой закладкой и закрыл книгу. «Это ты, дитя мое,» — сказал он. Я подошла и поцеловала его. Похоже, он сразу заметил, что я изменилась. Выглядел он удивленным и немного встревоженным. Он справился о Женевьеве и спросил, привезла ли я ее с собой. Я сказала, что нет. Бедная девочка, было бы жестоко требовать от нее молиться так подолгу. Она растет упрямой, и это волнует папу все больше. Я заверила его, что она послушная девочка, а он сказал, что считает ее склонной к непокорности. За этим надо следить. Я взбунтовалась — возможно, потому что снова готовилась стать матерью. Я не хочу, чтобы Женевьева — когда придет время — вышла замуж так, как вышла замуж я. Я довольно резко возразила, что считаю ее нормальным ребенком. Нельзя ожидать от детей, что они будут вести себя, как ангелы. Папа подскочил и со страхом посмотрел на меня. «Нормальным ребенком? — вскричал он. — Что ты этим хочешь сказать?» И я ответила: «То, что для ребенка нормально время от времени капризничать, как ты это называешь. Женевьева своевольна, но я не стану ее за это наказывать». «Пожалеть розгу — испортить ребенка, — возразил он. — Непослушных детей надо пороть.» Я ужаснулась. «Ты не прав, папа, — сказала я. — Я с тобой не согласна. Женевьеву не будут пороть. Никого из моих детей не будут пороть». Он с изумлением посмотрел на меня, и я выпалила: «Да, папа, я жду ребенка. На этот раз мальчика, надеюсь. Я буду молиться, чтобы Господь послал мне сына… ты тоже должен об этом молиться». У него перекосился рот: «Ты ждешь ребенка…» Я радостно ответила: «Да, папа. И я счастлива. Счастлива! Счастлива!» «Ты возбуждена,» — сказал он. «Я возбуждена. Я готова танцевать от радости!» Вдруг папа схватился за край стола и стал медленно оседать на пол. Я подхватила его и не дала ему упасть. Я не могла понять, что с ним случилось. Ему было плохо. Я позвала Лабисов и Мориса. Они пришли и уложили его в постель. У меня самой кружилась голова. Они послали за мужем, и я догадалась, что у папы приступ. Я думала, что он умирает.
«Прошло два дня. Папа спрашивал меня, он весь день спрашивает меня. Ему нравится, когда я сижу с ним. Врач говорит, мое присутствие ему полезно, и я постоянно в Карефуре. Муж тоже здесь. Я уже призналась ему. Сказала: «Папе стало плохо, когда я ему сообщила, что жду ребенка. Полагаю, для нега это был удар». Муж утешил меня: «Он давно болен. Паралич мог разбить его в любую минуту». «Но папа не хотел, чтобы у меня были дети, — сказала я. — Он считал, что это грешно». Муж уговаривал меня не волноваться. Это вредно для ребенка. И он был доволен. Я знаю, он доволен потому, что больше всего на свете ему хочется иметь сына».
«Сегодня я разговаривала с папой. Мы были одни. Он открыл глаза и увидел меня. Он позвал: «Онорина… это ты?» А я ответила: «Нет. Это я, Франсуаза». Но он продолжал твердить «Онорина», и я поняла, что он принимает меня за маму. Я сидела у постели и вспоминала о тех временах, когда мама была жива. Я виделась с ней не каждый день. Иногда ее одевали в платье с тесьмой и корсетом, и госпожа Лабис сводила ее вниз, в гостиную. Мама тогда сидела в кресле и ничего не говорила. Я всегда думала, что у меня странная мама. Но она была очень красива. Даже ребенком я это понимала. Она напоминала мне куклу, которая у меня когда-то была. Я помню ее гладкую розовую кожу без единой морщинки, тонкую талию, и еще пухлые плечи и изящный изгиб спины, как на картинках в книжках про красивых дам. Я сидела у постели отца, думая о маме и о том, как однажды вошла и увидела, что она смеется, и смеется так странно, будто не может остановиться, а госпожа Лабис уводит ее по лестнице в комнату, где она потом оставалась долгое время. Я знала эту комнату, потому что однажды туда заходила. Я взобралась наверх, чтобы побыть с мамой. Она сидела на стуле, поставив ноги в маленьких бархатных тапочках на скамеечку. В комнате было тепло, а на дворе шел снег. Мне это запомнилось. Высоко на стене висела лампа под колпаком, как у меня в детской. Еще мне запомнилось окно. В комнате было одно маленькое окошечко — без занавесок, но с решеткой. Я подошла к маме и села у ее ног. Она ничего не сказала, но обрадовалась. Стала гладить меня по голове, ерошить мне волосы, дергать их, запутывать и вдруг начала смеяться тем странным смехом, какой я уже слышала. Вбежала госпожа Лабис и прогнала меня. Она велела Нуну отругать меня и больше никогда не пускать наверх. Поэтому маму я видела только тогда, когда она спускалась в гостиную. А тут папа заговорил об Онорине, и мне вспомнился именно тот случай. Папа неожиданно сказал: «Я должен идти, Онорина. Я должен идти. Нет, мне нельзя остаться». Потом он молился: «Господи, я слабый человек. Женщина соблазняла меня, из-за нее я стал таким грешником. Пришло возмездие. Ты испытывал меня, Господи, и раб твой согрешил. Седьмижды семьдесят раз согрешил против тебя, Господи». Я сказала: «Папа, все в порядке. Это не Онорина, а я, Франсуаза, твоя дочь. И ты не грешник. Ты праведный человек». Он забормотал: «А? Что такое?» И я стала его успокаивать».
«Сегодня ночью я многое поняла. Я лежала в постели и думала о папе. Он стремился к святой жизни, хотел стать монахом, но с набожностью в нем боролась чувственность. Для него это должно было быть настоящей пыткой — слышать голос плоти и стараться заглушить его. Потом он повстречал мою мать и возжелал ее. Он отказался от мысли уйти в монастырь и вместо этого женился, но даже женившись, стремился подавить в себе физическое влечение и, когда ему это не удавалось, презирал себя. Моя мать была красива. Даже ребенком я понимала это. Папа не мог перед ней устоять. Представляю, как он мерил шагами комнату, заминая себя не прикасаться к жене. Физическую любовь он считал грехом, но был не в состоянии бороться с ней. Он запирался в своей монашьей келье, бросался на соломенный тюфяк, бичевал себя. Папа наверняка ждал возмездия, потому что сам никогда не прощал. Любой, даже мелкий проступок в доме подлежал наказанию. Во время утренней молитвы это было главной темой его нравоучений. «Мне отмщение, сказал Господь». Бедный папа! Как, должно быть, он был несчастен! Бедная мама! Что у нее был за брак? Потом я вдруг поняла, что папа натворил в моей семейной жизни, и заплакала от жалости, но затем сказала себе: «Еще не поздно. У меня скоро родится ребенок, так что наверно все можно исправить». И стала размышлять, как помочь папе, но придумать ничего не смогла».

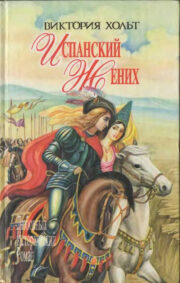
"Король замка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Король замка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Король замка" друзьям в соцсетях.