Следом, чувствуя, что времени осталось совсем мало, Генрих де Валуа потребовал от всех военачальников и придворных принести прямо при нем клятву верности Генриху Наваррскому как будущему королю.
В последние свои минуты Генрих показал себя настоящим королем, разумным государственным деятелем, способным ради единства страны пойти даже на примирение с еретиком, как совсем недавно называл Наварру. Король сделал все, что оставалось в его силах, чтобы примирить, объединить Францию, забыв о себе и своей боли, король последние минуты потратил на спокойствие французов.
Почему же этого не сделать раньше, ведь, примирившись с Генрихом Наваррским и объединив усилия, он мог давным-давно противостоять Лиге или заставить Гизов принять религиозное многообразие Франции. Неужели ради начинающегося примирения (до полного оставалось еще девять лет религиозных войн) должны были погибнуть или умереть почти все участники противостояния — Гизы, Екатерина Медичи, сам король?
Тяжелое наследство он оставлял Генриху Наваррскому, очень тяжелое. Умирающий король понимал, что его не раз проклянут фанатики, которым едва ли придется по душе приход к власти протестанта, именно поэтому он и намекнул зятю на необходимость снова стать католиком…
Агония длилась долго, только в два часа ночи наступило освобождение от земных мук. Видя, как мучается король, невольно плакали все придворные и даже его преемник Генрих Наваррский. Если у Генриха де Валуа и были грехи (у кого их нет?), то своей мученической смертью он искупил большую их часть…
Короля Франции не стало, Генрих де Валуа умер! Да здравствует король Генрих де Бурбон!
Ничего этого пока не знали в Юсоне. На сей раз Маргарита не почувствовала трагедии, а потому была сражена наповал сообщением из Парижа об убийстве короля. Как бы она ни злилась на Генриха, как бы тот ни грозил «уничтожить эту дрянь», как бы ни позорил когда-то перед всем двором, это был любимый брат, тот, кого она когда-то познала и как мужчину.
Два дня Маргарита просто ревела, не слушая никаких уговоров. Только когда слез уже просто не осталось, а глаза опухли, пришла мысль о собственной судьбе. Теперь из всех ее противников остался только Генрих Наваррский, собственный муж, который вовсе не собирался ни считаться с женой, ни заботиться о ней.
Самой опасной противницей, несомненно, была королева-мать, но пока были живы Генрих де Гиз и Генрих де Валуа, у Маргариты была хоть какая-то защита. Брат не желал ее видеть, костерил на чем свет стоит, но ее смерти он не желал. А вот Генрих Наваррский не раз твердил, что был бы рад получить известие о ее удушении. Конечно, это могло говориться в угоду очередной любовнице, такое бывало и раньше, но кто знает, чего пожелает новый король Франции теперь? Получив корону, Генрих Наварра вряд ли согласится взять к ней довесок в виде Маргариты де Валуа. Жена и раньше не была ему нужна, а уж теперь тем более.
Маргарита лежала на постели, прижимаясь щекой к промокшей от слез подушке. Было жарко, даже здесь, наверху, где ветер выдувал все, что можно, припозднившийся летний зной заставлял, закрывшись от посторонних глаз, сбрасывать одежды, потому и королева лежала обнаженной под легкой простынкой.
Подумав над своей горькой судьбой еще немного, она решительно приказала принести поесть, сменить мокрую от слез подушку и постелить вместо обычных свои любимые простыни из черной тафты.
С аппетитом обгладывая фазанью ногу, Маргарита пыталась понять, что чувствует. Скорбь по брату уже ушла, оплакивай не оплакивай, Генриха не вернешь. Она осталась последней из семи детей Екатерины Медичи. Разве мог кто-то предсказать столь страшную судьбу потомству итальянки? Мадам Змея, как нередко называли королеву-мать, родила пятерых сыновей и пять дочерей, и только трое из рожденных умерли во младенчестве, что было редкостью для тех времен. Сама мать пережила восемь из десяти рожденных ею и увидела несчастья всех.
Теперь осталась только Маргарита, но и над ней нависла смертельная опасность.
Но Маргарита была истинной дочерью своей матери, хотя так не считала. Она умела приспосабливаться к любым условиям, не считая уступки унижением. К чему требовать чего-то, что едва ли получишь, если можно смириться и получить куда больше? Однажды она решила поиграть в политику. Выступила против тех, кто сильнее, но ее просто предали — сначала горожане, потом собственная мать. Больше рисковать Маргарита не желала.
Путь в Париж для нее закрыт? А нужен ли ей тот Париж, какой он теперь, — разоренный, всем недовольный? К тому же в Париже слишком хорошо помнят ее брата-короля и королеву-мать, хотя то, что она была возлюбленной Гиза, и то, что ее держали в Юсоне, могло бы помочь завоевать симпатии парижан… Над этим стоило подумать.
Но, приканчивая фазана, мадам уже поняла, что не будет завоевывать симпатии горожан, это слишком опасно, потому что их пристрастия переменчивы, в следующий раз ее не станут отправлять в Юсон, придушат на месте. Лучше подумать, чем может грозить приход к власти Генриха Наваррского и что из этого можно выгадать.
Вывод был не слишком утешительным — мужу она не нужна, зато вредна, как бы не попытался убить. Нет, Генрих не настолько глуп, чтобы держать у неприступных стен Юсона войска, но он может просто перекрыть ей доступ денег, это будет куда хуже…
Сколько ни думала, ничего умней пока, чем просто ждать, не придумала. Генриху не до нее, и он ничем не угрожает. Елизавета Австрийская средствами снабжает исправно, стены Юсона крепки, общество начинает складываться, даже хористы нашлись, и голоса у них хорошие… Часовню отремонтировали, продовольствия хватает… К чему с кем-то бороться? Позовет Генрих в Париж, она поедет, а на нет и суда нет…
Король Наварры осаждал мятежный Париж, а его королева преспокойно жила в Юсоне. Правда, она на всякий случай набила подвалы замка продовольствием, приказала вычистить все источники воды, увеличила гарнизон и запаслась боеприпасами, а также завела целую сеть шпионов в округе, чтобы всегда быть в курсе дел. Это потом очень пригодилось.
Но главное — она поняла, что, сидя пленницей в замке, она обрела настоящую свободу. Маргарита много лет пыталась от чего-то освободиться, то добиваясь отъезда из Парижа, то потом воюя со всеми, а оказалось, что главное, в чем она может быть свободной, — в своем выборе любви.
Ее могли выдать замуж насильно, загнать в крепость, могли посадить под арест в Лувре, могли даже посадить в Бастилию или лишить головы, как Ла Моля, но не могли лишить права любить того, кого она выбирала сама! Когда пришло понимание этого, на душе стало легко. Монтень прав: границы человеческой свободы вовсе не внешние, а внутренние, если человек свободен сам, никакие рамки ему не страшны, и наоборот, даже будучи королем и хозяином Лувра, можно быть нищим пленником.
Она многое перенесла, испытала много унижений и насилия, многое передумала, но теперь осознала себя свободной, и никто, никакие короли, даже все вместе, не могли с ней справиться! Свободная женщина неподвластна мужчинам, даже если у них на голове корона, а на плечах мантия!
Пожалуй, с пониманием этого пришло настоящее счастье, иное, чем было раньше, вовсе без честолюбия, без стремления завоевать что-то и кого-то, без ненужных потуг. Маргарита была счастлива просто потому, что жила. И свобода вдруг стала ощущаться по-иному, не возможностью или невозможностью выехать в Париж, а собственным желанием остаться вдали от ненужной суеты, пока самой не захочется покинуть этот спокойный мир и окунуться в столичную суету.
Состояние было новым и удивительно приятным. Книги, размышления, молодые любовники… Оказалось, что для счастья вовсе не нужно блеска Лувра или восторженных криков толпы, счастье оно в другом. Маргарита все чаще вспоминала Монтеня и перечитывала его книгу. Мишель прав, хороши или плохи события жизни, во многом зависит от того, как мы их воспринимаем. А лучшее доказательство мудрости — непрерывно хорошее расположение духа.
У Маргариты де Валуа теперь бывало хорошее расположение духа. Нет, она часто ругалась и даже кричала, но что это была за ругань…
— Нет, это безобразие! — Маргарита с возмущением отбросила в сторону «Духовные тайны» преподобного Бернара, которые читала.
— Что вас так возмущает, мадам? — чуть нараспев протянула фрейлина Мишлетт де Форжер, словно кошечка гревшаяся у огня.
Камины приходилось топить постоянно, кроме разве жарких летних дней. Замок на горе насквозь продувался ветрами. И сквозняки на его территории гуляли знатные. Но ко всему можно привыкнуть, зато здесь Маргарита была настоящей хозяйкой. Она много читала, вот и теперь в ее руки попали рассуждения преподобного отца о женской и мужской сущности.
— Женщина сотворена второй следом за мужчиной, поэтому является более слабым существом второго сорта! Мы, видите ли, заслуживаем почитания мужчин только из-за наших физических недостатков и беззащитности! Вопиющая глупость!
— Но женщина действительно создана из мужского ребра… и мы действительно слабее…
— Вы глупы, Мишлетт! Физические недостатки и беззащитность вызывают у людей вовсе не почитание, а презрение и жалость. Разве вы преклоняетесь перед горбатым уродом?
Фрейлины, слушавшие тираду своей королевы, чуть смутились:
— Бывает… ведь иногда горбуны очень умны и даже проницательны.
Маргарита даже вскочила:
— Вот именно: умны и проницательны! Разве вы цените их за горб, за физическое уродство? Нет, за ум! Если вдуматься, то получается, что женщина существо более высшего, чем мужчина, порядка. Из чего создан Адам? Из глины, проще сказать, грязи, которая под ногами. А Ева? Из его ребра, которое грязью быть уже перестало! Кроме того, создавая что-то, мы всегда последующее делаем лучше предыдущего, бог тоже создавал свои творения в определенной последовательности — от худших к лучшим! Потому женщина куда более совершенное создание, чем мужчина.
— Но правят миром все же мужчины.
Юбки королевы взметнулись от резкого поворота, ее палец ткнул в сторону возразившей Мариэтт:
— Это только потому, что женщины пока не осознали своего совершенства. Женское тело куда более совершенно, чем мужское.
Маргарита снова принялась расхаживать, взволнованно рассуждая на тему совершенства женщин перед мужчинами, изумленные фрейлины даже рты приоткрыли, слушая свою королеву, которая не ведала, что пройдут столетия, прежде чем женщины смогут осознать сами и заставить мужчин признать, по крайней мере, свое равенство. А в шестнадцатом веке такие речи звучали и вовсе крамольно.
Но уж на крамолу Маргарите наплевать совершенно, женщина, не признававшая запретов со стороны людей, готова была поспорить и с преподобным отцом.
— Женщина, как и мужчина, сотворена десницей божьей, но превосходит его настолько, насколько ребро человека превосходит глину, из которой тот сделан. И душа женская куда более расположена к высоким порывам, нежели грубая мужская! В конце концов, — она торжествующе остановилась посреди комнаты, — женщина мать бога! И почитать ее нужно, прежде всего, за это!
Закончив тираду и оставив слушательниц в немом изумлении, Маргарита плюхнулась в кресло и долго смотрела на огонь, видно переваривая собственные мысли. Размышления привели ее к решению написать ответ преподобному отцу, приведя те самые возражения, которые только что перечислила.
Королева так и сделала. Ответ от автора «Духовных тайн» она не получила, но хоть душу отвела.
Из комнаты доносился веселый смех мадам:
— Ну и глупость мы с вами сочинили, Антуан!
Поэт пытался взять ответственность на себя:
— О нет, мадам, неудачные строчки принадлежат мне. Ваша поэзия прекрасна.
— Все вы врете. Правда, я иногда пишу неплохие стихи, но только не в этот раз. Будем справедливы, такой бред могли сочинить только два дурака:
Ах, эти леса, полянки, пещеры!
Вам чудные звуки, и слезы, и веру,
Песни и взоры, перо и венец
Дарит от сердца любовник, певец!
После пафосной декламации королева просто повалилась от хохота в кресло.
И снова Антуан Ла Пюжад, весьма и весьма посредственный поэт, которого Маргарита пригласила в Юсон ради развлечения общества, пытался возразить, но королева его оборвала:
— Полноте вам оправдываться. Слагать стихи дано не всем, нам с вами нет, хоть я королева, а вы поэт. О, получилась вполне приемлемая строчка, куда лучше, чем мы с вами напридумали за целое утро. Идите лучше я вас поцелую, и на том сегодня порчу бумаги закончим. Знаете, Антуан, если бы мы переводили на свои глупости ценный пергамент, нас бы высекли.
Столь критическое отношение к собственным трудам со стороны королевы немало смущало поэта, он мямлил, пытаясь убедить Маргариту, что не все так плохо, но она только хохотала в ответ:

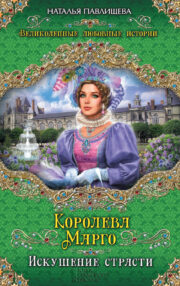
"Королева Марго. Искушение страсти" отзывы
Отзывы читателей о книге "Королева Марго. Искушение страсти". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Королева Марго. Искушение страсти" друзьям в соцсетях.